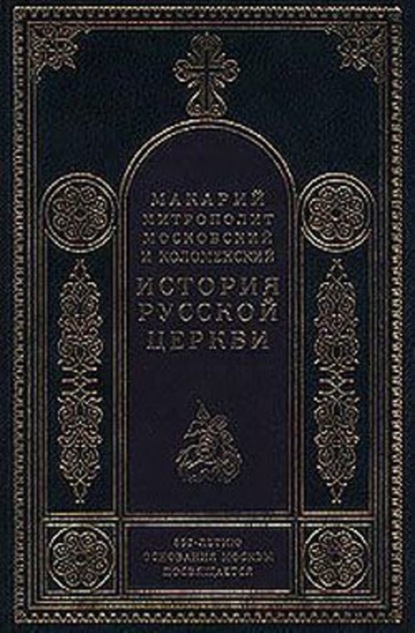 Полная версия
Полная версияПолная версия:
История Русской Церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240-1589). Отдел второй: 1448-1589
6. Приношения христиан, приходивших в монастыри для богомолья. Эти приношения, хотя обыкновенно незначительные, нередко составляли в совокупности значительный доход особенно в тех монастырях, которые имели мощи святых или чудотворные иконы, и потому наиболее привлекали к себе богомольцев. Так, царь Иван Васильевич каждый раз, когда посещал Кирилло-Белозерский монастырь для богомолья, жаловал монастырю иногда 100 рублей, иногда 200, или 300, или 400, а иногда и 600 рублей.
Для содержания белого духовенства источниками служили: 1. Небольшие участки церковной земли, которые существовали почти при каждой приходской церкви и разделены были между членами причта. Часть земли находилась под их усадьбами и жилищами, а вся остальная – под их пашнею, иногда и сенокосом. Этими небольшими земляными участками члены причта обыкновенно пользовались сами. Только немногие и преимущественно городские церкви владели значительными пространствами земли – пустошами, деревнями, селами и разными угодьями, которые и отдавали на оброк. О всем этом мы уже сказали прежде.
2. Добровольные приношения прихожан за церковные службы и требоисправления. Такие приношения принимались за совершение некоторых таинств: крещение, исповедь, браки, за отправление молебнов, за отпевание усопших, панихиды, сорокоусты и пр. Кроме того, священники, по крайней мере, четыре раза в год под великие праздники или на праздники обходили домы своих прихожан с крестом, святою водою и молитвословиями и в каждом доме получали за то большую или меньшую плату, смотря по достатку хозяина. Наиболее дохода членам церковного причта приходилось в дни храмовых праздников приходской церкви, когда в ней собирались кроме собственных прихожан многие христиане и из окрестных мест и совершалось иногда такое множество молебнов, что местные священники принуждены, бывали приглашать себе на помощь соседних священников. Правительство, церковное и гражданское, наблюдало, чтобы плата прихожан духовенству за требы была именно добровольная, а не вынужденная, и иногда находило нужным прямо обозначать эту плату. Приходы церковные, как и всегда, были неодинаковой величины, а потому и доходы приходского духовенства были различны. Но приблизительно священники получали с своих прихожан в год, как слышал Флетчер, около 30 или 40 рублей, из которых будто бы десятую часть платили своему епархиальному архиерею.
3. Руга из казны и от прихожан. Руга из казны назначалась преимущественно на городские церкви. Во всей Новгородской области церквей, пользовавшихся казенною ругою, известно по селам только семь, а в одном Новгороде их считалось до 40, иногда и до 50, и в Старой Руссе до 5. В иные из этих церквей руга отпускалась только на церковный причт; в другие – и на церковный обиход, т. е. на вино, на свечи, на ладан, а в некоторые – лишь на церковный обиход. В первом случае руга простиралась от 18 алтын до 13 рублей на причт; во втором от 3 до 19 рублей; исключение составляли две церкви в Новгороде – святого Иоанна Предтечи на Опоках, на которую выдавалось 60 рублей, и Благовещенская на Городище, получавшая 97 рублей. А в тех, впрочем весьма немногих, случаях, когда руга отпускалась только на церковный обиход, она восходила от четырех алтын до рубля. Некоторые церкви получали казенную ругу не только деньгами, но и хлебом, каковы: церковь Крестовоздвиженская в Устюжне Железноборской, Успенский собор во Владимире и Софийский собор в Новгороде. На первую церковь ежегодно отпускалось: попу два рубля денег, 15 четвертей ржи и 15 четвертей овса; на просфоры две четверти пшеницы; просвирне две четверти ржи; пономарю четыре четверти ржи и столько же овса. В Успенском владимирском соборе получали: протопоп десять рублей, протодиакон, большой поп и ключарь по восьми рублей, пять священников по шести рублей каждый; четыре диакона каждый по четыре с половиною рубля; пономарь и просвирня по рублю да по десяти четвертей ржи и овса, а последняя еще по 15 четвертей пшеницы на просфоры. В Новгороде на причт Софийского собора по жалованной грамоте 1504 г. отпускалось: протопопу – 25 коробей ржи и столько же овса; протодиакону и восмнадцати священникам – по 15 коробей ржи каждому и по стольку же овса; четырем диаконам – по десяти коробей ржи и овса на человека, двум псаломщикам и семнадцати дьячкам – по пяти коробей ржи и овса на человека. А царь Иван Васильевич грамотою 1556 г. велел еще отпускать ежегодно на весь причт по 100 рублей и, кроме того, по 10 рублей и 30 алтын за десять в продолжение года панихидных служб по государевым родственникам да по 7 рублей и 5 алтын «за ужины» накануне тех дней, когда совершались эти службы. Причты многих московских церквей получали «годовое государево жалованье» сукном ценою от нескольких алтын до двух рублей (Доп. А. и. 1. № 131. С. 203–208). Но бывали приходы, как городские, так и сельские, в которых сами прихожане назначали от себя определенную ежегодную ругу, хлебом или деньгами, своим церковным причтам и с этою целию заключали с ними «порядные записи», которые обязывались исполнять.
4. Торговля, Этим средством приобретения пользовались, подобно некоторым монастырям, по всей вероятности, только весьма немногие церкви, владевшие значительным количеством земли, каков был Дмитриевский собор во Владимире. В грамоте 1515 г., данной духовенству этого собора и не раз подтверждавшейся впоследствии, между прочим, сказано: «А коли те попы и диаконы поедут к Москве или в иные мои городы, о церковных делех и с торгом, и мытчики и все пошлинники мыта, ни иных ни которых пошлин на них не емлют» (А. э. 1. № 159).
5. Пошлины. Источник – еще более частный, который был доступен лишь причтам кафедральных соборов. Мы уже упоминали, что в числе пошлин, собиравшихся в каждой епархии, не все шли на одного архиерея, а некоторые назначались и на его свиту, в частности, на его соборян. К пошлинам последнего рода принадлежали: а) пошлины ставленые, о них, равно как и о назначении их на соборян, нами сказано прежде; б) соборная куница, т. е. куница на соборный клир, о ней упоминается, по крайней мере, по Ростовской епархии (А. э. 1. № 176, 202, 293); в) пошлины за освящение церквей и антиминсы. До Стоглавого Собора размер этих пошлин не было определен и «о антиминсех продажу чинили великую» (Стоглав. Гл. 5, вопрос 2). В Новгороде, например, причт Софийского собора по грамоте 1504 г. брал с сельских церквей, в приходе которых числилось 500–600 обеж, за каждый антиминс по рублю и по полтора рубля новгородских, а при освящении церквей брал и все те приношения, какие делали христолюбцы по случаю этого освящения. Но Стоглавый Собор определил, чтобы за антиминсы и освящение церквей по всем епархиям соборные протопопы с причтами взимали от большой церкви по полуполтине, а от церквей теплых и придельных по пяти алтын, а из приношений, делаемых христианами по случаю освящения церквей, брали только третью часть (Стоглав. Гл. 47). г) Венечная пошлина. Эта пошлина относилась к архиерейским пошлинам в каждой епархии, но не вся: с некоторых церквей, или приходов, она поступала на причт кафедрального собора. Так, во Владимире со всех приходов на посаде венечная пошлина собиралась на причт городского Успенского собора, а в Новгороде она собиралась на софийских соборян не только на посадах, но и в 110 погостах Новгородских пятин, т. е. едва не с половины церквей собственно Новгородского края. Венечную пошлину на архиереев, по Стоглаву, собирали поповские старосты и десятские священники, а на соборы «свою венечную пошлину» взимали сами соборные протопопы и священники (гл. 69). д) Проскурная пошлина. Новгородский софийский причт брал проскурную пошлину с посадских церквей и с 90 монастырей: «с иного монастыря до гривны новгородской, с иного больше того, а с иного меньше». Существовала ли эта пошлина в других епархиях – неизвестно. е) Праздничные гривны. Когда в монастырях и посадских церквах Новгорода случался храмовой праздник, то софийский протопоп посылал туда для участия в богослужении соборного диакона и уличане или прихожане, кроме благодарности лично этому диакону, чтили еще софийского протопопа с братиею праздничными гривнами, взимание которых подтверждено было и Стоглавым Собором. О существовании в других епархиях и этой пошлины также ничего не знаем.
Был и еще один источник доходов, которым по временам пользовались у нас и архиерейские дома, и монастыри, и приходские церкви – это отдача денег и хлеба в рост и прибыль. По словам Герберштейна, прихожане наших церквей «иногда отдавали церковные деньги в рост, по десяти со ста и проценты предоставляли священнику, чтобы не быть вынужденным питать его на свой счет». Царь Иван Васильевич спрашивал на Стоглавом Соборе: «Угодно ли Богу и согласно ли с Божественным Писанием, что из церковной и монастырской казны дают деньги в рост?» (Стоглав. Гл. 5, вопрос 16). Собор отвечал: «Что святительские казенные деньги, равно и монастырские казенные деньги, дают в рост и хлеб „в наспы“ – в прибыль, это Божественное Писание и священные правила возбраняют не только епископам, и пресвитерам, и всему священническому и иноческому чину, но и простым людям. Посему отныне святителям и монастырям давать деньги своим крестьянам по своим селам без росту и хлеб без прибыли, чтобы за ними крестьяне жили и села их не оставались пусты, и записывать только в книги, сколько кому дано денег и хлеба взаймы, и книги „для крепости“ держать в казне; можно также давать взаймы и другим нуждающимся людям деньги и хлеб без росту, но „с поруками и с крепостьми“ и записывать в казенные книги; а в рост денег не давать по священным правилам» (Стоглав. Гл. 76). Из документов последующего времени видно, что действительно хлеб взаймы отпускался монастырями крестьянам без наспу и деньги из монастырской и архиерейской казны выдавались взаймы разным лицам, в том числе и крестьянам, и возвращались без росту.
Если значительными представляются доходы некоторых наших архиереев и монастырей, то не незначительны были и их расходы. Каждый архиерей должен был содержать не одного себя, но и всю свою свиту, состоявшую из лиц духовных и светских, и всех своих служителей и дворовых людей, которых, например, у Новгородского владыки было до 126, и если не все, то многие из этих лиц, например священники и причетники домовых архиерейских церквей, пономари и звонари кафедрального собора, певчие дьяки и подьяки и все дворовые люди, проходившие определенные службы при архиерейском доме, получали из архиерейской казны ежегодное жалованье. А наши монастыри, богатые средствами, почти всегда были богаты и монахами, и Троице-Сергиеву, например, монастырю недешево, конечно, обходилось, чтобы только одевать и кормить своих 700 братий и целую стаю монастырских прислужников. Не менее, если даже не более, требовалось издержек от архиереев и монастырей на построение и содержание архиерейских домов и монастырских келий, на устройство и поддержку разных других экономических зданий и заведений, на поддержание и улучшение всего архиерейского и монастырского хозяйства и особенно на созидание и содержание храмов Божиих не только при самих архиерейских кафедрах и в самих монастырях, но и в принадлежавших им вотчинах, а таких храмов в вотчинах, например, Кирилло-Белозерского монастыря, как мы видели, было до 80. На построение и украшение своих церквей некоторые наши архиереи и настоятели монастырей жертвовали с большим усердием и любовию и не щадили никаких издержек.
Но «церковное богатство – нищих богатство» – эту мысль сознавали сами наши духовные землевладельцы и повторяли, когда отстаивали свои недвижимые имущества. Она же выражалась и в монастырских уставах и ясно выражена в самом Судебнике царя Ивана Васильевича IV. И при многих наших церквах и монастырях, по нелживому свидетельству писцовых книг, несомненно существовали богадельни и странноприимницы, в которых нищие, бесприютные и пришельцы находили для себя приют и прокормление. А в Троице-Сергиевом монастыре существовал обычай пропитывать на свой счет весь народ, какой стекался в монастырь ежегодно в известные дни для богомолья. С некоторых имений, завещанных в монастыри, весь доход даже не записывался в монастырские книги, а прямо употреблялся на раздачу нищим и на поминовение жертвователей согласно с их волею. Особенно обнаруживалась благотворительность некоторых наших обителей в дни народных бедствий. Преподобный Пафнутий Боровский с своею обителию прокормил однажды во время голода всех окрестных жителей, стекавшихся в нее ежедневно по тысяче человек и более, и истощил на них все свои хлебные запасы. Преподобный Иосиф Волоколамский отворил для прокормления голодавших поселян все житницы своего монастыря и, когда они опустели, делал даже займы, а для постоянного призрения странников и нищих построил особое пристанище под именем «Богорадного монастыря», в котором обитель ежедневно кормила по шестисот и семисот человек. Преподобный Даниил Переяславский пропитал однажды во время голода средствами своей обители всех приходивших в нее в продолжение восьми месяцев, пока не настала новая жатва. О Кирилло-Белозерском монастыре сам Грозный царь засвидетельствовал: «Кириллов доселе многия страны пропитывал в гладныя времена». Наши архиереи имели обычай посылать милостыни узникам в темницы.
Несвободно было наше духовенство и от государственных податей и повинностей. Мы уже говорили, что все земли как митрополита и прочих архиереев, так и монастырей и церквей положены были правительством в сохи или в пожни, за исключением только небольших собственно церковных и иногда монастырских пашней. Поэтому и все духовные землевладельцы наравне с прочими обязаны были платить в казну разные ежегодные дани и пошлины соответственно количеству своих сох или пожней. Равно и все священно – и церковнослужители, которые хотя не имели у себя другой земли, кроме церковной пашни, но имели свои домы не на церковной, а на «черной» земле, должны были тянуть всякое тягло вместе с черными людьми. К числу государственных повинностей – и самых важных – принадлежали «ратная» и так называвшееся городское дело, состоявшее в том, чтобы делать в местных городах валы, ограды, кремли, возить для того камни, песок, известь, и не подлежит сомнению, что если не всегда, то по временам наше духовенство участвовало в обеих этих повинностях. Владельцы духовного звания должны были в случае войны выставлять из своих сел и деревень «даточных людей» наравне со всеми другими вотчинниками и содержать на собственный счет, а архиереи обязывались посылать тогда на царскую службу и своих боярских детей, и, например, владыка Новгородский выставлял иногда из своих вотчин особенный полк, называвшийся «владычным стягом» и находившийся под начальством владычного воеводы. В 1495 г. псковичи хотели взять конных людей для рати с самих своих попов и вообще с церковных причтов, и вече готово было сделать даже насилие над некоторыми священниками; к счастию, последние успели убедить вече, что требуемая от них повинность несогласна с правилами святых отцов в Номоканоне. Но в 1518 г. по приказанию великого князя духовенство псковское уже привлечено было к этой повинности и должно было во время похода на Полоцк поставить коней и телеги, чтобы вести «весь наряд пушечный». Таким же образом в 1545 г. и духовенство всего Новгородского края: попы, диаконы, причетники, просвирни, вместе со всеми прочими жителями, должны были по воле великого князя дать с своих дворов известное число ратных людей, пеших и конных, и известное количество пороха для предпринимавшегося похода на Казань. Государь пожаловал только архиепископа: не велел брать ратных людей с дворов – софийского кафедрального духовенства, боярских детей владыки и всех его служилых людей, живших на Чудинцевой улице, за исключением, однако ж, дворов, принадлежавших крестьянам владыки, которые, следовательно, не освобождались от этой повинности. «Городское дело» до 1534 г. не было обязательным для духовенства, по крайней мере, в Новгороде, по свидетельству местного летописца, хотя известно, что владыка Геннадий еще в 1490 г. поставил в Новгороде целую треть каменного кремля своею казною, между тем как две остальные части поставлены были казною великого князя. Но в 1534 г., когда из Москвы прислан был приказ поставить деревянный город на Софийской стороне, государевы дьяки именем малолетнего великого князя и матери его Елены привлекли к этому делу и новгородское духовенство и «на самаго архиепископа Макария урок учиниша, такожде и на весь священный лик, на церковные соборы урок учиниша». То же самое случилось тогда и в Москве, где строилась большая деревянная и земляная стена вокруг Китай-города по воле малолетнего князя и его матери, которые, сделав на эту постройку пожертвование из собственной казны, «повелеша и отцу своему митрополиту вдати, елико достоит, такожде и всему священническому чину урок учиниша». А псковские священники еще в 1517 г., когда пало сорок сажен местного кремля, должны были по воле великого князя принять участие в поправке этой стены наравне с прочими жителями и возили требовавшийся для того камень.
Не отказывалось наше духовенство жертвовать и на нужды Церкви и государства, открывавшиеся по временам. Когда вслед за покорением Смоленска в 1514 г. воссоединилась с Московскою митрополиею Смоленская епархия и оказалось, что средства содержания Смоленского владыки скудны, тогда митрополит, архиепископы и епископы охотно согласились давать ему из собственной казны ежегодную пошлину, которая и доставлялась во все княжение Василия Ивановича. Когда в 1555 г. открыта была епархия в Казани, то определением Собора по воле государя положено было, между прочим, собирать для нового архиепископа на первых порах пособие деньгами и хлебом от всех архиереев и монастырей, и этот сбор продолжался несколько лет. В 1535 г. крымские татары привели в Москву множество русских пленников и требовали за них выкупа. Великий князь с своею матерью, приказав выдать часть сребра из собственной казны, послал к Новгородскому архиепископу Макарию, чтобы и он пожертвовал от себя и собрал со всех монастырей своей епархии, в Новгороде и Пскове, семьсот рублей. Макарий немедленно собрал и доставил эти деньги. А на Стоглавом Соборе вопрос о выкупе пленных царь предложил на обсуждение владык, говоря: «Пленных привозят из орд на выкуп, в том числе бояр и боярынь, и никто их не выкупает, и тех пленников, мужей и жен, опять везут назад в бусурманство, а здесь над ними всячески издеваются; надобно о сем рассудить соборне». Отцы Собора отвечали, что выкуп пленных соотечественников должен быть делом всей Русской земли и «общею милостынею». И потому выкупать пленных где бы то ни было – в Царьграде, в Крыму, Казани, Астрахани, Кафе и тех, которые привозятся в Москву греками, турками, армянами и другими купцами, следует из царевой казны, а затем, сколько издержится в год на выкуп из царевой казны, раскидывать то на сохи по всей Русской земле ровно и собирать пошлину (Стоглав. Гл. 5, вопрос 10 и гл. 72). В этой пошлине, известной под именем «полоняничных денег», участвовали и все духовные землевладельцы: архиереи, монастыри и церкви, и она собиралась с них ежегодно до самого конца периода . По взятии Казани множество пленных татар было приведено в Россию, и они розданы были на жительство по монастырям, особенно новгородским, для приготовления к принятию христианства, а когда крестились, то оставались в тех же монастырях, которые обязаны были «устроивать их и кормом, и одежею, и обувью из монастырские казны».
Дорого обходился нашим архиереям существовавший тогда обычай делать подарки, или «поминки», государю, митрополиту и другим высокопоставленным лицам и вообще знакомым, насколько можно судить по тем сведениям, какие сохранились о Новгородском владыке. В 1476 г. едва только великий князь Иван Васильевич, пожелавший пойти в Новгород «миром» вступил в пределы новгородские, как его встретил посланный от владыки Новгородского Феофила «с поминки». За девяносто верст до Новгорода встретил князя и сам владыка с прочими властями новгородскими, светскими и духовными, и поднес ему от себя две бочки вина, одну красного, другую белого, тогда как все прочие поднесли только по меху вина. Когда князь прибыл в Новгород с Своею многочисленною свитою, владыка поспешил прислать ему от себя «кормы». Три раза пировал государь у владыки, пока находился в Новгороде, и каждый раз владыка подносил ему дары. В первый раз, 23 ноября, владыка поднес три постава ипского сукна по 30 новгородских рублей за постав, сто золотых коробленых, зуб рыбей, а проводного – бочку вина белого и бочку красного. Во второй раз, 14 декабря, подарил 150 коробленников, пять поставов ипского сукна да жеребца, а проводного – бочку вина и две бочки меду. В третий раз, 19 генваря, 300 коробленников, золотой ковш с жемчугом, две гривенки, два рога, окованные серебром, серебряную мису, двенадцать гривенок, пять сороков соболей и десять поставов ипского сукна. Дары других знатных лиц, у которых также пировал великий князь в Новгороде, были вообще ниже даров владыки. В 1478 г., когда Иван Васильевич вошел в Новгород как покоритель, тот же владыка два раза подносил ему от себя дары: 29 генваря, перед обедом, на который был приглашен князем, поднес панагию, обложенную золотом с жемчугами; страусово яйцо, окованное серебром, в виде кубка; чарку сердоликовую, окованную серебром; серебряную мису и 200 коробленников; в другой раз, 12 февраля, пред литургиею, поднес цепь, две чаши и ковш золотые, весом около девяти фунтов кружку, два кубка, мису и пояс серебряные, вызолоченные, весом в 31 фунт с половиною, и 200 корабельников. В 1535 г. Новгородский архиепископ Макарий, приехав в Москву, сотворил великому князю и его матери Елене «поклонение по государскому обычаю и дары многи принесе». В 1570 г. женился царь Иван Васильевич на царевне Марии и владыка Новгородский Пимен послал к нему два креста в 370 рублей, два образа, обложенные серебром, в 170 рублей, да двум царевичам по образу в 80 рублей, да еще 40 золотых. Но всего подробнее говорят о занимающем нас предмете уцелевшие отрывки из расходных книг новгородского софийского дома за 1547–1548 гг., хотя они обнимают не целый год, а только десять месяцев (с 1 ноября по 30 августа), и с большими пропусками. В этот период владыка Феодосий успел несколько раз отправить свои поминки в Москву. Ноября 13-го послал он к брату великого князя Юрию Васильевичу по случаю его свадьбы (3 ноября 1547 г.) с благословением и дарами своих боярских детей, князя Оболенского и Бартенева, а с ними послал самому князю Юрию образ Спасов, обложенный серебром, да золотой атлас, да пять портищ камок на 45 рублей московских, а молодой княгине – такой же образ Спасов да князю Димитрию Палецкому и его жене – по образу в серебряных же окладах. Декабря 18-го, посылая к государю испросить себе разрешение на поездку в Псков, владыка послал четыре иконы, обложенные серебром, брату государеву Юрию Васильевичу и его жене – по иконе и Ивану Дмитриевичу Володимирову и его жене – по иконе да 17 золотых боярам. Пред праздником Пасхи, 26 марта, послал к государю царю «с великоденским мехом» своего боярского сына, князя Василия Шаховского, а с ним послал: самому царю мех вина бастру да 20 золотых угорских, его царице Анастасии и его брату Юрию – по 10 золотых угорских, его теще – 6 золотых угорских; митрополиту Макарию – мех вина бастру да 10 золотых угорских, владыке Тверскому – золотой корабельник, Крутицкому – золотой угорский; двенадцати боярам великого князя и духовнику – по золотому корабленнику; восьмнадцати другим знатным лицам, князьям, постельничим великого князя – по золотому угорскому; восьми женам знатных бояр и князей – по золотому угорскому, четырнадцати дьякам – по золотому угорскому; архимандриту симоновскому и митрополичьим старцам – казначею, келейному, архидиакону – по золотому угорскому, а всего 103 золотых угорских и 14 золотых корабельников. Месяца через два или три с половиною, 10 июня или июля, владыка послал к государю царю своего дворецкого Волуева, а с ним самому царю икону, обложенную серебром, да бурого жеребца, царице – такую же икону, брату государя – такую же икону да серого мерина, митрополиту – гнедого мерина, а боярам великого князя и дьякам – 23 золотых угорских да 9 золотых корабленников. В самом Новгороде владыка дарил знатных особ при всяком открывавшемся случае то иконами, обложенными серебром, то серебряными ковшами, которые нарочно для этого покупались и заготовлялись в большом количестве. Приглашал ли кто из знати на пир к себе владыку – он непременно вез с собою несколько икон и крестов, обложенных серебром, которыми и благословлял хозяина, хозяйку и их детей; впрочем, в этом случае владыку щедро отдаривали. Угощал ли сам владыка у себя новгородского наместника и других сановников или приезжих из Москвы от великого князя и митрополита – владыка одаривал и их богатыми иконами и серебряными ковшами. Отъезжал ли новгородский наместник по воле государя на другое место службы – владыка благословлял его на путь драгоценною иконою. Проезжала ли через Новгород из Пскова в Москву знатная боярыня – и ей владыка посылал серебром обложенный образ. Когда владыка отправлялся в Псков, то брал с собою запас богато украшенных икон и серебряных ковшей и там оделял ими, как в Новгороде, кого хотел и во время пиров и при других случаях. Самых больших издержек стоили для владыки приезды в Новгород государя: тогда у владыки недоставало собственной казны и он входил в долги, занимая то у настоятелей монастырей, то у своего псковского наместника, то у других, которым впоследствии и выплачивал долги.



