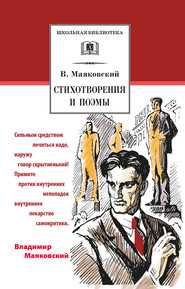
Полная версия:
Стихотворения и поэмы
Маяковский смело вводил в поэзию язык улиц, «площадные» слова и выражения. Неоднократно он о себе говорит: «ору». Но «низкие» слова необязательно снижают общий тон, бывает и наоборот, например в поэме «Хорошо!»: «Мы – / голодные, / мы – / нищие, // с Лениным в башке / и с наганом в руке» (о самом трудном периоде Гражданской войны).
В стихотворениях Маяковского используется прямая речь лирического героя и персонажей, поэт играет чужим словом, особенно в стихах о загранице (французские, английские выражения). Бывает, слово формально принадлежит авторской речи, но передает позицию отнюдь не одобряемых персонажей. Так, в «Стихах о советском паспорте» тупые чиновники на границе «берут, / не морг-нув, / паспорта датчан // и разных / прочих / шведов».
Поэтический словарь Маяковским был существенно обновлен. Иногда он создавал составные неологизмы в духе Игоря Северянина, но с собственной стилистической экспрессией: пестрополосая, шляпой стопёрой, мордой многохамой, золотолапым микробом, кудроголовым волхвам, сердцелюдый и т. д. Однако преобладающий тип неологизма у Маяковского – слово с какой-нибудь измененной морфемой, выделенное, таким образом, с сохранением его основного лексического значения: зме́ин хвост, есть ли наших золот небесней, взорим, вспоем, сонница, трезвонится, в Эрэсэфэсэрью, красным Гейнем, размедведил вид, мертвость и др. В «Юбилейном», перечислив фамилии бездарных пролетарских поэтов, Маяковский восклицает: «…какой / однаробразный пейзаж!» Неологизм-каламбур однаробразный связывает подчас малограмотных сочинителей с отделом народного образования: еще один камешек в огород ведомству, просветительская деятельность которого Маяковского не удовлетворяла.
Поэт, особенно в юности, любил необычные сравнения: «мужчины, залежанные, как больница, // и женщины, истрепанные, как пословица» («Облако в штанах»). Потом он стал сдержаннее в сравнениях, но они продолжали играть большую роль: «Мороз хватает / и тащит, / как будто // пытает, / насколько в любви закаленные» («Владимир Ильич Ленин»), «В курганах книг, / похоронивших стих, // железки строк случайно обнаруживая, // вы / с уважением / ощупывайте их, // как старое, / но грозное оружие» («Во весь голос»). Среди других синтаксических приемов – эллипсис, пропуск тех или иных членов предложения: «…вам я // душу вытащу, / растопчу, / чтоб большая! – // и окровавленную дам, как знамя» («Облако в штанах»).
И конечно, Маяковский – мастер иносказательных выражений, прежде всего метафор: «гвоздями слов // прибит к бумаге я» («Флейта-позвоночник»), «Очистительнейшей влагой вымыт // грех отлетевшей души» («Война и мир»), «Мир / хотел бы / в этой груде го́ря // настоящие облапить груди-горы» («Про это»), «Мне наплевать / на бронзы многопудье, // мне наплевать / на мраморную слизь» («Во весь голос») и т. д.
Исключительно много сделал Маяковский для развития русского стиха. Начинал он с вполне классической силлабо-тоники[1]: «Ночь», кроме одной дактилической строки, написана четырехстопным амфибрахием, «А вы могли бы?» – четырехстопным ямбом. Но уже в 1913 го-ду поэт осваивает тонический стих. У Маяковского он не был равноударным, строчки разной длины просто различались счетом ударений. Иногда такой стих называют свободным стихом с рифмой. Впоследствии Маяковский упорядочил свою тонику, у него стали преобладать четырехударные, трехударные стихи и их сочетания. Иногда в качестве «ритмического курсива», обычно в конце четверостишия, возникает резко укороченная, вплоть до одного слова, строка. Формой записи стихов со второй половины 1913 года стал «столбик», дробивший стихи на более короткие отрезки, каждый из которых выделялся. Это усложняло восприятие, границы между стихами и рифмы оказывались завуалированными, часто теряются при первом прочтении, читателю приходится возвращаться от конца строфы к началу. Вдобавок Маяковский не следил внимательно за правильным расположением частей каждого стиха в печати и потом не исправлял вкравшихся ошибок.
В 1923 году, работая над поэмой «Про это», Маяков-ский перешел от «столбика» к более собранной «лесенке», которая сохраняла дробление стиха, но без его размывания. Это сразу сделало произведения Маяковского намного яснее.
«Лесенка» применяется и в стихах, которые не относятся к тоническим. Из них для Маяковского советского периода характерны нетрадиционные вольные ямбы и хореи с длиной стиха до десяти стоп (хотя, как правило, они бывают не больше семи). Такой хорей мы видим, например, в стихотворениях «Юбилейное» (где первая лесенка – обращение, выделенное полужирным шрифтом: Александр Сергеевич, / разрешите представиться. / Маяковский», – по сути, вообще прозаический зачин), «Сергею Есенину», «Товарищу Нетте – пароходу и человеку». Но хорей в них не всегда выдерживается, как в «Необычайном приключении…», записанном еще в «столбик», в двух местах не выдерживался ямб (в стихотворении осуществляется чередование четырех- и трехстопного ямба). «Письмо Татьяне Яковлевой» и поэма «Во весь голос» в произвольном порядке чередуют разные формы тонического и силлабо-тонического стиха, метрические переходы, как правило, совпадают со смысловыми. Главное, стих Маяковского исключительно разнообразен и гибок, легко и в основном естественно сочетает ранее не сочетавшееся.
Столь же разнообразны рифмы Маяковского. Часто они являются неточными, особенно в нечетных стихах четверостиший (точные в четных – втором и заключительном, четвертом, – их уравновешивают), но при этом по большей части богатыми, с совпадением предударных частей слов, и, разумеется, небанальными, непривычными для уха читателей 1910–1920-х годов: перуанцы – померанца, черного – ученого, громадили – Богоматери. Среди них рифмы составные: смотрел, как – тарелка, лучше как – поручика, я ни на – Северянина; неравно-сложные (рифмуя части слов разной длины, Маяковский далеко превзошел своих предшественников-экспериментаторов): Пиррову – вырву, названивая – названия, обнаруживая – оружие; одновременно составные и неравносложные: взмахами шагов мну – Гофману, год от года расти – бодрости; разноударные: времени – ремни, в радости – подрасти; консонансы (созвучие согласных без созвучия ударных гласных): громкою – рюмкой (консонанс неравносложный), у самого – на самовар, ровненько – браунинга, ковшом – в шум – и многие другие.
Художественные принципы Маяковского прошли немалую эволюцию, и не только в отношении стиха. Установлено, что со временем поэт отказывается от лексической контрастности, сокращая число как слов высокого стиля, так и вульгаризмов, глаголы уступают место прилагательным (во «Владимире Ильиче Ленине» по сравнению с «Облаком в штанах» стиль заметно описательнее, статичнее), убывают смелые сравнения и красочные метафоры, зато метонимий (иносказаний с переносом значения не по сходству, а по смежности: «певец кипяченой // и ярый враг воды сырой»), как и устойчивых эмблем («Славьте, / молот / и стих, // землю молодости» в «Хорошо!»), становится больше. И, само собой, наряду с «я» ранних стихов появляется «мы». В целом стиль Маяковского, обращающегося к советским читателям, становится если не во всем проще, то доступнее, хотя не всегда произведение от этого выигрывает.
⁂Не только усложненные, но и вполне «понятные» стихи Маяковского остались и остаются в существе своем непонятыми, недооцененными тем самым широким читателем, к которому он после революции по преимуществу обращался. Слишком громок его поэтический голос. Он кричит так, чтобы докричаться до всей Вселенной, и именно поэтому те, кто стоит к нему достаточно близко, его не слышат. Да, Маяковский говорит что-то важное «векам, истории и мирозданью», но и каждому человеку в отдельности, «уважаемым товарищам потомкам». Только его уважение еще нужно оправдать.
С. Кормилов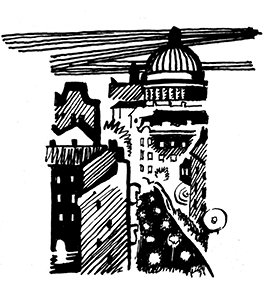
Стихотворения
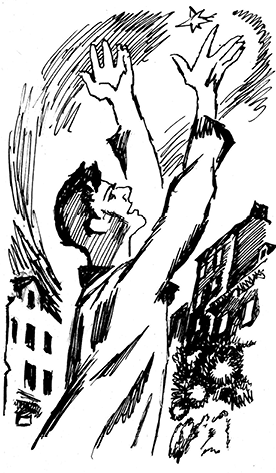
Ночь{1}
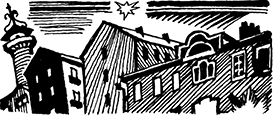
Из улицы в улицу
У –лица.Лицаудоговгодоврез –че.Че –резжелезных конейс окон бегущих домовпрыгнули первые кубы.Лебеди шей колокольных,гнитесь в силках проводов!В небе жирафий рисунок готоввыпестрить ржавые чубы.Пестр, как форель,сынбезузорной пашни.Фокусникрельсытянет из пасти трамвая,скрыт циферблатами башни.Мы завоеваны!Ванны.Души.Лифт.Лиф души расстегнули.Тело жгут руки.Кричи, не кричи:«Я не хотела!» –резокжгутмуки.Ветер колючийтрубевырываетдымчатой шерсти клок.Лысый фонарьсладострастно снимаетс улицычерный чулок.1913А вы могли бы?
Я сразу смазал карту будня,плеснувши краску из стакана;я показал на блюде студнякосые скулы океана.На чешуе жестяной рыбыпрочел я зовы новых губ.А выноктюрн сыгратьмогли бына флейте водосточных труб?1913От усталости
Земля!Дай исцелую твою лысеющую головулохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.Дымом волос над пожарами глаз из оловадай обовью я впалые груди болот.Ты! Нас – двое,ораненных, загнанных ланями,вздыбилось ржанье оседланных смертью коней.Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.Сестра моя!В богадельнях идущих веков,может быть, мать мне сыщется;бросил я ей окровавленный песнями рог.Квакая, скачет по полюканава, зеленая сыщица,нас заневолитьверевками грязных дорог.1913Адище города
Адище города окна разбилина крохотные, сосущие светами адки́.Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,над самым ухом взрывая гудки.А там, под вывеской, где сельди из Керчи –сбитый старикашка шарил очкии заплакал, когда в вечереющем смерчетрамвай с разбега взметнул зрачки.В дырах небоскребов, где горела рудаи железо поездов громоздило лаз –крикнул аэроплан и упал туда,где у раненого солнца вытекал глаз.И тогда уже – скомкав фонарей одеяла –ночь излюбилась, похабна и пьяна,а за солнцами улиц где-то ковыляланикому не нужная, дряблая луна.1913Нате!
Через час отсюда в чистый переулоквытечет по человеку ваш обрюзгший жир,а я вам открыл столько стихов шкатулок,я – бесценных слов мот и транжир.Вот вы, мужчина, у вас в усах капустагде-то недокушанных, недоеденных щей;вот вы, женщина, на вас белила густо,вы смотрите устрицей из раковин вещей.Все вы на бабочку поэтиного сердцавзгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.Толпа озвереет, будет тереться,ощетинит ножки стоглавая вошь.А если сегодня мне, грубому гунну,кривляться перед вами не захочется – и вотя захохочу и радостно плюну,плюну в лицо вамя – бесценных слов транжир и мот.1913Ничего не понимают
Вошел к парикмахеру, сказал – спокойный:«Будьте добры́, причешите мне уши».Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,лицо вытянулось, как у груши.«Сумасшедший!Рыжий!»{2} –запрыгали слова.Ругань металась от писка до писка,и до-о-о-о-лгохихикала чья-то голова,выдергиваясь из толпы, как старая редиска.1913Несколько слов обо мне самом{3}
Я люблю смотреть, как умирают дети.Вы прибоя смеха мглистый вал заметилиза тоски хоботом?А я –в читальне улиц –так часто перелистывал гро́ба том.Полночьпромокшими пальцами щупаламеняи забитый забор,и с каплями ливня на лысине куполаскакал сумасшедший собор.Я вижу, Христос из иконы бежал,хитона оветренный крайцеловала, плача, слякоть.Кричу кирпичу,слов исступленных вонзаю кинжалв неба распухшего мякоть:«Солнце!Отец мой!Сжалься хоть ты и не мучай!Это тобою пролитая кровь моя льетсядорогою дольней.Это душа мояклочьями порванной тучив выжженном небена ржавом кресте колокольни!Время!Хоть ты, хромой богомаз,лик намалюй мойв божницу уродца века!Я одинок, как последний глазу идущего к слепым человека!»1913Послушайте!
Послушайте!Ведь, если звезды зажигают –значит – это кому-нибудь нужно?Значит – кто-то хочет, чтобы они были?Значит – кто-то называет эти плево́чкижемчужиной?И, надрываясьв метелях полу́денной пыли,врывается к богу,боится, что опоздал,плачет,целует ему жилистую руку,просит –чтоб обязательно была звезда! –клянется –не перенесет эту беззвездную му́ку!А послеходит тревожный,но спокойный наружно.Говорит кому-то:«Ведь теперь тебе ничего?Не страшно?Да?!»Послушайте!Ведь, если звездызажигают –значит – это кому-нибудь нужно?Значит – это необходимо,чтобы каждый вечернад крышамизагоралась хоть одна звезда?!1914А все-таки
Улица провалилась, как нос сифилитика.Река – сладострастье, растекшееся в слюни.Отбросив белье до последнего листика,сады похабно развалились в июне.Я вышел на площадь,выжженный кварталнадел на голову, как рыжий парик.Людям страшно – у меня изо рташевелит ногами непрожеванный крик.Но меня не осудят, но меня не облают,как пророку, цветами устелят мне след.Все эти, провалившиеся носами, знают:я – ваш поэт.Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!Меня одного сквозь горящие зданияпроститутки, как святыню, на руках понесути покажут богу в свое оправдание.И бог заплачет над моею книжкой!Не слова – судороги, слипшиеся комом;и побежит по небу с моими стихами под мышкой,и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.1914Еще Петербург
В ушах обрывки теплого бала,а с севера – снега седей –туман, с кровожадным лицом каннибала,жевал невкусных людей.Часы нависали, как грубая брань,за пятым навис шестой.А с неба смотрела какая-то дряньвеличественно, как Лев Толстой.[1914]Война объявлена
«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!Италия! Германия! Австрия!»И на площадь, мрачно очерченную чернью,багровой крови пролила́сь струя!Морду в кровь разбила кофейня,зверьим криком багрима:«Отравим кровью игры Рейна!Грома́ми ядер на мрамор Рима!»С неба, изодранного о штыков жала,слёзы звезд просеивались, как мука́ в сите,и подошвами сжатая жалость визжала:«Ах, пустите, пустите, пустите!»Бронзовые генералы на граненом цоколемолили: «Раскуйте, и мы поедем!»Прощающейся конницы поцелуи цокали,и пехоте хотелось к убийце – победе.Громоздящемуся городу уро́дился во снехохочущий голос пушечного баса,а с запада падает красный снегсочными клочьями человечьего мяса.Вздувается у площади за ротой рота,у злящейся на лбу вздуваются вены.«Постойте, шашки о шелк кокотоквытрем, вытрем в бульварах Вены!»Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!Италия! Германия! Австрия!»А из ночи, мрачно очерченной чернью,багровой крови лила́сь и лила́сь струя.20 июля 1914 г.Мама и убитый немцами вечер
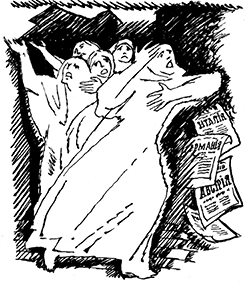
Скрипка и немножко нервно
Скрипка издергалась, упрашивая,и вдруг разревеласьтак по-детски,что барабан не выдержал:«Хорошо, хорошо, хорошо!»А сам устал,не дослушал скрипкиной речи,шмыгнул на горящий Кузнецкий{7}и ушел.Оркестр чужо смотрел, каквыплакивалась скрипкабез слов,без такта,и только где-тоглупая тарелкавылязгивала:«Что это?»«Как это?»А когда геликон –меднорожий,потный,крикнул:«Дура,плакса,вытри!» –я встал,шатаясь полез через ноты,сгибающиеся под ужасом пюпитры,зачем-то крикнул:«Боже!»Бросился на деревянную шею:«Знаете что, скрипка?Мы ужасно похожи:я вот тожеору –а доказать ничего не умею!»Музыканты смеются:«Влип как!Пришел к деревянной невесте!Голова!»А мне – наплевать!Я – хороший.«Знаете что, скрипка?Давайте –будем жить вместе!А?»1914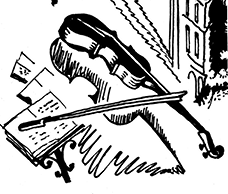
Я и наполеон
Я живу на Большой Пресне,36, 24.Место спокойненькое.Тихонькое.Ну?Кажется – какое мне дело,что где-тов буре-миревзяли и выдумали войну?Ночь пришла.Хорошая.Вкрадчивая.И чего это барышни некоторыедрожат, пугливо поворачиваяглаза громадные, как прожекторы?Уличные толпы к небесной влагеприпали горящими устами,а город, вытрепав ручонки-флаги,молится и молится красными крестами.Простоволосая церковка бульварномуизголовьюприпала, – набитый слезами куль, –а у бульвара цветники истекают кровью,как сердце, изодранное пальцами пуль.Тревога жиреет и жиреет,жрет зачерствевший разум.Уже у Ноева оранжереипокрылись смертельно-бледным газом!Скажите Москве –пускай удержится!Не надо!Пусть не трясется!Через секундувстречу янеб самодержца, –возьму и убью солнце!Видите!Флаги по небу полощет.Вот он!Жирен и рыж.Красным копытом грохнув о площадь,въезжает по трупам крыш!Тебе,орущему:«Разрушу,разрушу!»,вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,я,сохранивший бесстрашную душу,бросаю вызов!Идите, изъеденные бессонницей,сложите в костер лица!Все равно!Это нам последнее солнце –солнце Аустерлица!{8}Идите, сумасшедшие, из России, Польши.Сегодня я – Наполеон!Я полководец и больше.Сравните:я и – он!Он раз чуме приблизился троном,{9}смелостью смерть поправ, –я каждый день иду к зачумленнымпо тысячам русских Яфф!Он раз, не дрогнув, стал под пулии славится столетий сто, –а я прошел в одном лишь июлетысячу Аркольских мостов!{10}Мой крик в граните времени выбит,и будет греметь и гремитоттого, чтов сердце, выжженном, как Египет,есть тысяча тысяч пирамид!За мной, изъеденные бессонницей!Выше!В костер лица!Здравствуй,мое предсмертное солнце,солнце Аустерлица!Люди!Будет!На солнце!Прямо!Солнце съежится аж!Громче из сжатого горла храмахрипи, похоронный марш!Люди!Когда канонизируете именапогибших,меня известней, –помните:еще одного убила война –поэта с Большой Пресни!1915Военно-морская любовь
По морям, играя, носитсяс миноносцем миноносица.Льнет, как будто к меду о́сочка,к миноносцу миноносочка.И конца б не довелось ему,благодушью миноносьему.Вдруг прожектор, вздев на нос очки,впился в спину миноносочки.Как взревет медноголосина:«Р-р-р-астакая миноносина!»Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,а сбежала миноносица.Но ударить удалось емупо ребру по миноносьему.Плач и вой морями носится:овдовела миноносица.И чего это несносен наммир в семействе миноносином?1915Гимн критику
От страсти извозчика и разговорчивой прачкиневзрачный детеныш в результате вытек.Мальчик – не мусор, не вывезешь на тачке.Мать поплакала и назвала его: критик.Отец, в разговорах вспоминая родословные,любил поспорить о правах материнства.Такое воспитание, светское и салонное,оберегало мальчика от уклона в свинство.Как роется дворником к кухарке сапа,{11}щебетала мамаша и кальсоны мыла;от мамаши мальчик унаследовал запахи способность вникать легко и без мыла.Когда он вырос приблизительно с поленои веснушки рассыпались, как рыжики на блюде,его изящным ударом коленапровели на улицу, чтобы вышел в люди.Много ль человеку нужно? – Клочок –небольшие штаны и что-нибудь из хлеба.Он носом, хорошеньким, как построчный пятачок{12},обнюхал приятное газетное небо.И какой-то обладатель какого-то именинежнейший в двери услыхал стук.И скоро критик из и́мениного выменивыдоил и брюки, и булку, и галстук.Легко смотреть ему, обутому и одетому,молодых искателей изысканные игрыи думать: хорошо – ну, хотя бы этомупотрогать зубенками шальные икры.Но если просочится в газетной сетио том, как велик был Пушкин или Дант,кажется, будто разлагается в газетегромадный и жирный официант.И когда вы, наконец, в столетний юбилейпродерете глазки в кадильной гари,имя его первое, голубицы белей,чисто засияет на поднесенном портсигаре.Писатели, нас много. Собирайте миллион.И богадельню критикам построим в Ницце{13}.Вы думаете – легко им наше бельеежедневно прополаскивать в газетной странице!1915Гимн обеду
Слава вам, идущие обедать миллионы!И уже успевшие наесться тысячи!Выдумавшие каши, бифштексы, бульоныи тысячи блюдищ всяческой пищи.Если ударами ядртысячи Реймсов{14} разбить удалось бы –по-прежнему будут ножки у пулярд{15},и дышать по-прежнему будет ростбиф!Желудок в панаме! Тебя ль заразятвеличием смерти для новой эры?!Желудку ничем болеть нельзя,кроме аппендицита и холеры!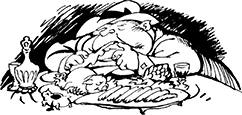
Чудовищные похороны
Мрачные до черного вышли люди,тяжко и чинно выстроились в городе,будто сейчас набираться будетхмурых монахов черный орден.Траур воронов, выкаймленный под окна,небо, в бурю крашенное, –все было так подобрано и подогнано,что волей-неволей ждалось страшное.Тогда разверзлась, кряхтя и нехотя,пыльного воздуха сухая охра,вылез из воздуха и начал ехатьтихий катафалк чудовищных похорон.Встревоженная о́жила глаз масса,гору взоров в гроб бросили.Вдруг из гроба прыснула гримаса,после –крик: «Хоронят умерший смех!» –из тысячегрудого мехагремел омиллионенный множеством эхза гробом, который ехал.И тотчас же отчаяннейшего плача ноживрезались, заставив ничего не понимать.Вот за гробом, в плаче, старуха-жизнь, –усопшего смеха седая мать.К кому же, к кому вернуться назад ей?Смотрите: в лысине – тот –это большой, носатыйплачет армянский анекдот.Еще не забылось, как выкривил рот он,а за ним ободранная, куцая,визжа, бежала остро́та.Куда – если умер – уткнуться ей?Уже до неба плачей глыба.Но еще,еще откуда-то плачики –это целые полчища улыбочек и улыбокломали в горе хрупкие пальчики.И вот сквозь строй их, смокших в одинсплошной изрыдавшийся Гаршин{16},вышел ужас – вперед пойти –весь в похоронном марше.Размокло лицо, стало – кашица,смятая морщинками на выхмуренном лбу,а если кто смеется – кажется,что ему разодрали губу.1915Мое к этому отношение
(Гимн еще почтее)
Май ли уже расцвел над городом,плачет ли, как побитый, хмуренький декабрик, –весь год эта пухлая мордамаячит в дымах фабрик.Брюшком обвисшим и гаденькимлежит на воздушном откосе,и пухлые губы бантикомсложены в 88.Внизу суетятся рабочие,нищий у тумбы виден,а у этого брюхо и все прочее –лежит себе сыт, как Сытин{17}.Вкусной слюны разли́лись волны,во рту громадном плещутся, как в бухте,А полный! Боже, до чего он полный!Сравнить если с ним, то худ и Апухтин{18}.Кони ли, цокая, по асфальту мчатся,шарканье пешеходов ли подвернется под взгляд ему,а ему все кажется: «Цаца! Цаца!» –кричат ему, и все ему нравится, проклятому.Растет улыбка, жирна и нагла,рот до ушей разросся,будто у него на роже спектакль-гала́затеяла труппа малороссов.Солнце взойдет, и сейчас же луч егоему щекочет пятки хо́леные,и луна ничего не находит лучшего.Объявляю всенародно: очень недоволен я.Я спокоен, вежлив, сдержан тоже,характер – как из кости слоновой то́чен,а этому взял бы да и дал по роже:не нравится он мне очень.[1915]Ко всему
Нет.Это неправда.Нет!И ты?Любимая,за что,за что же?!Хорошо –я ходил,я дарил цветы,я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!Белый,сшатался с пятого этажа.Ветер щеки ожег.Улица клубилась, визжа и ржа.Похотливо взлазил рожок на рожок.Вознес над суетой столичной одуристрогое –древних икон –чело.На теле твоем – как на смертном о́дре –сердцедникончило.В грубом убийстве не пачкала рук ты.Тыуронила только:«В мягкой постелион,фрукты,вино на ладони ночного столика».Любовь!Только в моемвоспаленноммозгу была ты!Глупой комедии остановите ход!Смотри́те –срываю игрушки-латыя,величайший Дон-Кихот!Помните:под ношей крестаХристоссекундуусталый стал.Толпа орала:«Марала!Мааарррааала!»Правильно!Каждого,ктооб отдыхе взмолится,оплюй в его весеннем дне!Армии подвижников, обреченным добровольцамот человека пощады нет!Довольно!Теперь –клянусь моей языческой силою! –дайтелюбуюкрасивую,юную, –души не растрачу,изнасилуюи в сердце насмешку плюну ей!Око за око!Севы мести в тысячу крат жни!В каждое ухо ввой:вся земля –каторжникс наполовину выбритой солнцем головой!Око за око!Убьете,похороните –выроюсь!Об камень обточатся зубов ножи еще!Собакой забьюсь под нары казарм!Буду,бешеный,вгрызаться в ножища,пахнущие по́том и базаром.Ночью вско́чите!Язвал!Белым быком возрос над землей:Муууу!В ярмо замучена шея-язва,над язвой смерчи мух.Лосем обернусь,в проводавпутаю голову ветвистуюс налитыми кровью глазами.Да!Затравленным зверем над миром выстою.Не уйти человеку!Молитва у рта, –лег на плиты просящ и грязен он.Я возьмунамалююна царские вратана божьем лике Разина.Солнце! Лучей не кинь!Сохните, реки, жажду утолить не дав ему, –чтоб тысячами рождались мои ученикитрубить с площадей анафему!И когда,наконец,на веков верхи́ став,последний выйдет день им, –в черных душах убийц и анархистовзажгусь кровавым видением!Светает.Все шире разверзается неба рот.Ночьпьет за глотком глоток он.От окон зарево.От окон жар течет.От окон густое солнце льется на спящий город.Святая месть моя!Опятьнад уличной пыльюступенями строк ввысь поведи!До края полное сердцевыльюв исповеди!Грядущие люди!Кто вы?Вот – я,весьболь и ушиб.Вам завещаю я сад фруктовыймоей великой души.1916
