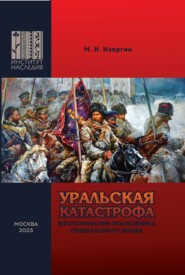 Полная версия
Полная версияУральская катастрофа. Воспоминания полковника Генерального штаба
9 февраля 1920 года. Бивуак
Переход 8 февраля надо считать самым успешным из всех сделанных до сих пор – 40 вёрст.
Неизменно всё то же белое бесконечное плоскогорье Усть-Урта, сугробы поперёк дороги и от времени до времени замёрзшие люди по сторонам дороги… Это всё, на чём мог остановиться взор.
Погода заметно становится мягче и теплее.
По словам Джам Бая, мы находимся недалеко от очень трудного спуска в долину, где мы найдём всё, для нас необходимое – аулы, жителей, продовольствие… Наши дамы, пренебрегая «трудностью спуска», представляют себе джамбайскую долину как обетованную землю, как долину, где розы цветут. Надежды, пусть даже иллюзорные, скрашивают жизнь.
13 февраля 1920 года. Бивуак Кара-Су[43]
Прошли четыре дня.
Путешественнику по закаспийским степям надо иметь в виду, что его и киргизские представления о том, что «близко» и что далеко, весьма различны. Киргиз – дитя простора и необъятных пространств, и поэтому часто то, что киргиз считает близким, для нас оказывается очень отдалённым.
Потребовалось четыре перехода, чтобы дойти до «недалёкого», по мнению Джам Бая, спуска в «долину благополучий». Теперь всё ясно: «недалеко» оказалось 4 дня пути, а под тем, что Джам Бай называл долиной, надлежало разуметь залив Кара-Су. Так или иначе, это мы будем видеть ниже, до обетованной земли мы дошли и теперь бивуакируем на берегу Чёрных Вод, то есть Кара-Су.
Я опускаю описание местности, которую прошёл отряд в эти 4 дня. Иначе я должен был бы повторить дословно всё то, что уже было сказано о виденном в дни, им предшествовавшие…
Это было третьего дня. Наскучив медленным, невыразимо томительным движением нашего жалкого каравана, вдвоём, я и капитан Седдон, мы покинули бивуак ранее выступления отряда и ушли вперёд. Пройдя несколько вёрст, впереди нас и несколько левее нашей дороги мы увидели маленький дымок. Совершенно неожиданное видение среди степи, лишённой жизни! Подойдя ближе, мы обнаружили бивуак, покинутый каким-то отрядом, оставившим на бивуаке три трупа замёрзших людей. Но не это плачевное зрелище, которое мы видели не в первый раз, поразило нас: на этом покинутом бивуаке кроме мёртвых людей был живой, или, лучше сказать, полуживой человек. Стоя на коленях, он раздувал жалкий костерок из маленьких кусочков саксаула. На огне стояла жестяная коробка с водой. Происхождение «маленького дымка» стало для нас ясным.
При нашем приближении к стоявшему на коленях человеку последний поднял голову, посмотрел на нас мутными, потухающими глазами, опустил голову снова и продолжил своё занятие, желая как будто показать нам, что только в согревании воды есть смысл и значение, что весь окружающий его мир для него не существует.
На наши вопросы человек отвечал с трудом и неохотно. Тем не менее, от него мы узнали, что он казак 1-го Уральского полка, что он и три его однополчанина, все с отмороженными ногами, были вчера оставлены полком на бивуаке. Два из них умерли от холода, застыли, а третий покончил жизнь выстрелом из винтовки. «Я, – сказал нам умирающий уралец, – перед смертью хочу выпить тёплой воды». Произнеся эти слова, казак тяжело лёг, вероятно, затем, чтобы больше не встать…
Вероятно, мы до конца наших дней будем помнить маленький дымок влево от дороги…
Вчера, несмотря на сильный, по счастью, благоприятного для нас направления ветер, отряд снялся с бивуака в 8 часов утра и к полудню подошёл к спуску с Усть-Урта на побережье Кара-Су. К этому времени ветер, постепенно усиливаясь, перешёл в ураган, дувший теперь во всех, можно сказать, направлениях. Тучи снега и песка, гонимые ураганом, не позволяли временами различать предметы, в десяти шагах от вас находящиеся.
Плато Усть-Урт с высоты 300–400 метров круто, местами отвесно, ниспадает к побережью Кара-Су, оставляя между берегом и подножием его скал узкую песчаную полосу в 1 ]/2 – 2 версты шириной. По этой полосе проходит прибрежная дорога.
Спуск к заливу особенно труден в средней его части вследствие крутизны и извилистости дороги.
К наступлению темноты только первые два отделения отряда успели сойти на берег; остальные три застряли где-то в горах.
Всю ночь свирепствовал ураган, ни на минуту не ослабевая.
Что происходило с частью отряда, оставшейся на ночь в горах, мы не знали, но зато точно знали, что происходило в ту же ночь внизу, на берегу Кара-Су. Здесь нас засыпало песком. Казалось, что песчаные волны намерены поглотить передовую часть нашего отряда. Под напором ветра держаться на ногах не было никакой возможности. Только двигаясь на четвереньках можно было перемещаться, и то с большим трудом. Надо ли говорить о том, что ни палатки, ни кошары не могли быть поставлены.
Наши верблюды, как только мы сошли на берег, легли, легли не просто, а все как один повернувшись спинами к направлению ветра, вытянув шеи по поверхности земли по направлению ветра. Мне кажется, что такое относительно направления ветра положение в песчаный буран верблюд принимает, чувствуя инстинктом опасность быть засыпанным песком и сознавая необходимость предохранить глаза от песка и гальки.
Всю ночь мы провели, тщетно стараясь найти какое-либо укрытие от ветра. Неописуемая по своему ужасу ночь. Это второй Волчий Вой, но только в обратном направлении – не снизу вверх, а сверху вниз.
К рассвету шторм стал ослабевать…
14 февраля 1920 года. Бивуак «лошадиной головы»
Великолепный, солнечный, почти летний день! 22° выше нуля!
Этому трудно верить, но тем не менее это несомненный факт.
Но я предупреждаю события.
К вечеру 11 февраля часть отряда, потерянная в горах, успела сойти на берег и присоединиться к нам, потеряв при этом свалившийся в пропасть один из фургонов Владеса.
В ночь на 13-е февраля ураган прекратился совершенно.
Утром того же дня отряд смог наконец покинуть гиблое место и продолжать путь прибрежной дорогой ровной и лёгкой. Отряд двигался успешнее, чем это можно было предполагать.
Несколько ранее выступления отряда Джам Бай и два уральских казака были на разведке местных условий.
Впервые за весь долгий путь мы наблюдаем признаки жизни в природе закаспийских степей и Усть-Урта – это изредка пролетающие над нами стаи диких уток. Явление само по себе незначительное, но для нас показательное.
Сделав около 20 вёрст, мы нашли наших разведчиков, которые сообщили, что в 3–4 вёрстах впереди нас мы найдём воду, фураж и топливо. Всё это оказалось верным.
К вечеру 13-го отряд стал на бивуак. После короткого оживления, когда путешественники готовили себе ужин, бивуак был объят глубоким сном…
Предполагал ли кто-либо из этих путешественников, что, проснувшись, он увидит летнее утро и последующий за утром день?
О них я хочу сказать несколько слов.
Полдень. Наш бивуак расположен около огромной скалы, Бог весть когда свалившейся с Усть-Урта на берег Кара-Су. Эта скала имеет забавное сходство с лошадиной головой.
Необыкновенная прозрачность воздуха. Безоблачное тёмно-синее небо и такая же поверхность залива Кара-Су. Грязно-желтоватый цвет явно видимых возвышенностей противоположного берега залива не гармонировал с цветом воды и неба. 22° тепла!
Полдюжины костров дымились в разных местах бивуака, причём дым в неподвижном воздухе подымался почти вертикально.
Два трупа каких-то неизвестных замёрзших людей валялись тут же, в расположении лагеря, никого не смущая своим видом. Такое зрелище стало для нас привычным.
Всё население бивуака занято туалетом, существенная часть которого состояла в ожесточённой борьбе с насекомыми при посредстве огня и дыма от костров…
Такую трогательную, казалось бы, совершенно невероятную идиллию можно было наблюдать 14 февраля 1920 года на восточном побережье Каспийского моря и залива Кара-Су.
15 февраля 1920 года. Бивуак Кара-Тау
Надолго останется в памяти каждого из нас гостеприимный бивуак у «лошадиной головы», который мы покинули сегодня утром.
14 февраля мне представляется кризисом тяжёлой болезни, каким-то бледным, но дающим надежду на лучшее лучом света, проникшим в до сих пор непроницаемую тьму.
К полудню отряд подошёл к южной оконечности залива Кара-Су.
Впереди нас, в небольшом удалении от нас, открывался гористый район, который наши проводники называют Кара-Тау, что значит «Черые горы» и который составляет одно из ответвлений главного Мангишлакского хребта. Вступив в этот район и пройдя десяток вёрст, мы встретили колодцы, около которых отряд стал на ночлег. Это было около 4 часа пополудни.
Трудно описать наше удивление и в то же время нашу радость, когда, скоро по прибытии отряда на бивуак, к нам пришли несколько киргиз, предлагая купить у них баранину, хлеб, овечий сыр. Долго мы не могли верить тому, что перед нами теперь не те люди, кто в борьбе со стихией погиб от холода и голода и кто в этой борьбе утратил человеческий образ, а настоящие, живые люди.
Это неожиданное событие не исчерпывает полностью наше благополучие: от киргиз, нас навестивших, мы узнали, что недалеко, в 3–4 вёрстах, находится этап, который был выслан из Форта Александровского для оказания помощи воинским отрядам и беженцам Уральского войска. «Лучше поздно, чем никогда».
Для проверки сведений, полученных от киргиза, был послан Мукаш с двумя казаками. Разведчики скоро вернулись с масличной веткой[44] в образе хлеба и мяса, которыми они были снабжены начальником этапа, действительно существующего.
В первый раз за 45 дней, дней лишений, борьбы и сверхчеловеческих усилий мы, если можно так выразиться, робко начинаем верить в то, что до места назначения мы дойдём.
В памяти каждого из членов русско-британского отряда 15-е февраля 1920 года останется незабываемым днём.
От первого этапа до Форта Александровского
15–24 февраля 1920 года
15 февраля 1920 года было, как мы видели, критическим, поворотным моментом в судьбе моего отряда.
В описании последующих за этой датой десяти днях пути, приведшего нас к конечной цели – форту, я ограничусь несколькими эпизодами, что, я думаю, даст описанию бедствий, постигших уральцев, должную законченность.
16- го февраля около десяти часов утра отряд был на этапе. Здесь мы были радушно встречены, накормлены, согреты, снабжены продовольствием на несколько дней.
Впредь до прибытия в форт переходы отряда выполнялись если не в нормальных, то, во всяком случае, терпимых условиях. Впредь ни снежные и песчаные ураганы, ни вид замёрзших людей, ни поиски топлива и фуража не отравляли больше нашего существования.
После дневного отдыха на этапе отряд продолжал движение, изменив южное направление последнего на западное, через мрачный, гористый, своеобразно красивый район Кара-Тау. К полудню 19-го числа отряд спустился в долину горного потока Джармыша. Здесь, в большом ауле того же названия, мы встретили второй этап полковника Сидоровнина – моего сослуживца по 1 – му уральскому корпусу. В ноябре прошлого года полковник Сидоровнин по болезни был эвакуирован в Форт Александровский. Прошло только три месяца с тех пор, как я видел полковника Сидоровнина последний раз. Теперь мне казалось, что до встречи с ним в Джармыше прошли года…
Джармыш
Аул Джармыш, включительно, заканчивает собою длинный ряд ужасов, виденных и испытанных на пути Прорва – этап полковника Сидоровнина. В этом ряду Джармыш занимает не последнее место.
Полдюжины полутемных, неописуемо грязных и скверно пахнувших киргизских глинобитных хижин-саклей, набитых до предела их вместимости больными людьми, главным образом, обмороженными и гангренозными – всё это представилось моему воображению каким-то чудовищным депо, где вместо брёвен были сложены полуживые, полумёртвые и даже совсем мёртвые люди.
Медицинский персонал этапа – один фельдшер, две сестры и три санитара, при почти полном отсутствии перевязочных средств не мог, конечно, обслуживать сотни больных. Их только кормили. В остальном они были предоставлены судьбе и самим себе. Ежедневно хоронили 8-10 человек. Людей, не утративших окончательно способности передвигаться, эвакуировали на верблюдах в Форт Александровский.
Так отразился Кизил-Джарский буран при 22° холода на этапе полковника Сидоровнина в Джармыше.
До форта остаётся 100 вёрст.
Покинув второй этап утром 21 февраля, отряд к вечеру 23-го числа пришёл на последний бивуак в 20-ти вёрстах от Форта Александровского – конечного пункта отрадного пути.
«Бирбешмек»
Накануне прихода отряда на последней бивуак, то есть 22 февраля, в палатке моего отделения имело место событие экстраординарное. Наши гиды Мукаш и Джам Бай предложили угостить наших друзей по несчастью – англичан, – киргизским национальным блюдом.
С вечера и до поздней ночи в киргизском отделении отряда приготовление национального блюда сопровождалось таким гвалтом и такими криками, что можно было предполагать ссору, если не драку. Несколько костров освещали эту, по-видимому, священную операцию.
Весь лагерь, за исключением нас и киргиз, был погружен в глубокий сон, когда, наконец, процессия в составе Джам Бая, Мукаша и двух других киргиз появилась у входа нашей палатки с готовым национальным блюдом, вернее, несколькими блюдами, от которых исходила туча пара, наполнившая палатку до той степени, что некоторое время за туманом мы не видели киргиз, а киргизы не видели нас. Но туман скоро рассеялся и наше долгое ожидание и терпение были щедро вознаграждены великолепным ужином, в меню которого входили два основных блюда: «палау» и «бирбешмек», приготовленные из риса и баранины специально киргизским способом. «Бирбешмек» значит «пять пальчиков»[45].
Пока мы ужинали, что длилось значительное время и далеко за полночь, киргизы, сидя на корточках, смотрели на нас с таким выражением почтения на лицах, что можно было думать, что мы не просто ели, а совершали какое-то священнодействие.
Гармония пиршества была несколько нарушена видом одного из сосудов, подобия кастрюли, очень специального назначения… Но один и тот же предмет может под разными широтами иметь разные применения, часто прямо противоположные.
На последние сотни вёрст пути от этапа полковника Сидоровнина до последнего бивуака, где мы находимся, отряд понёс большие потери. Умерли казак Жеребков, радиотелеграфист Борисоглебовский, инженер Инто-Апио, жена директора нефтяного общества Владеса и один старый уралец-казак, которого весь отряд знал под именем Ефимыча.
О последнем – несколько слов.
Ефимыч – бывший денщик полковника Мизинова, убитого в бою под Уральском в июне прошлого года. Понеся эту утрату, Ефимыч не покинул осиротевшую семью полковника Мизинова – жену и двух детей. Весь тяжёлый путь от Гурьева до бивуака, где его подстерегала смерть, я наблюдал, с каким самопожертвованием он заботился о вдове Мизиновой и её детях.
Утром 22 февраля Ефимыча нашли мёртвым под кошмой у входа в палатку наших дам. Не часто, но всё же встречаются удивительные люди, люди, которые всю свою жизнь заботятся о других скромно и бескорыстно, оставляя личные интересы на втором плане, считая, что так должно быть и не может быть иначе. Таков был наш бедный старый Ефимыч.
Он умер так же просто и спокойно, как жил: уснул вечером и не проснулся утром…
23 февраля. Отряд бивуакирует в 20 вёрстах от Форта Александровского – конечной цели. Это 38-й бивуак после Гурьева, 28-й после Прорвы и последний перед Фортом…
24 февраля. Слегка туманное, тёплое утро. Не без чувства большого облегчения в это утро отряд покинул последний бивуак. К 10-ти часам туман рассеялся и весеннее солнце осветило последние вёрсты многострадального, длинного пути, в котором уральский народ искал, но не нашёл спасение.
24 февраля 1920 года точно в полдень головное отделение русско-британского отряда вошло в Форт Александровский.
За несколько часов до этого события случилось другое: жена полковника Попова благополучно разрешилось от бремени, произведя на свет младенца, не знаю, мальчика или девочку. Так или иначе, мы не только теряем, но и приобретаем.
Последний акт уральской драмы закончен.
25 февраля 1920 года. Я с трудом допускаю, что кроме степей, плоскогорий, лишённых жизни, что кроме буранов, холода и замёрзших людей существуют нормальные условия человеческого существования.
Верно ли то, что я нахожусь в тёплой комнате, а не в палатке первого отделения отряда? Верно ли и то, что я избавился от невообразимой грязи и египетской казни – вшей? Верно ли, наконец, и то, что завтра, если не сегодня, мы должны идти куда-то дальше после неизменно burned Ivan's kasha?[46] Надеюсь, всё же, что мои сомнения – продукт моего больного воображения.
Русско-британский отряд прибыл в Форт Александровский на 55-й день по выходе из Гурьева, потеряв в пути 16 из 62 человек первоначального состава отряда, иначе говоря, отряд оставил четвёртую часть своих членов на восьмивёрстном пути от Гурьева до Форта.
Что можно сказать о числе людей, оставшихся на пути смерти от Гурьева до Форта? Вопрос, на который ответить трудно.
Если русско-британский отряд, организованный, обеспеченный двадцатидневным запасом продовольствия, потерял четвёртую часть своих людей, то какие обоснованные предложения могут быть сделаны относительно судьбы неодетой и голодной массы людей, бросившейся в пространство в стихийном порядке?
Единственной несомненной данной, позволяющей судить о размерах уральской катастрофы, надо считать, с большим приближением, тот факт, что впереди отступающей армии уходили «выкочевавшие», оставляя за собою опустевшие станицы, число которых выражается полусотней, если не больше.
Я не решаюсь приводить здесь цифровые данные потерь, данные, основанные на моих личных наблюдениях и впечатлениях, из опасения ошибиться. Но несомненно то, что эти потери несообразно, абсурдно велики.
Прибытием русско-британского отряда в Форт я заканчиваю мою печальную повесть.
Заключение
На протяжении шести месяцев, то есть за лето и осень 1919 года, погибли три армии, боровшиеся с большевизмом. В их числе – Уральская, уступавшая двум другим численно, но равная им по доблести.
Великие державы и их правительства и вожди не понимали, или не хотели понимать, что не оказывая белому движению действительной помощи, они рубили ветку, на которой сидели, не понимали и того, что в спасении России скрыты их собственные и что, быть может, недалёк час расплаты дорогой ценой за двойственность и лицемерие политической игры, приведшей к гибели антибольшевистских армий.
Уральское войско жертвенно выполнило свой долг перед Родиной ценою собственной жизни и своей армии.
Кладбища Кизил-Джара и Куй-Тюля, мёртвую с мёртвыми долину Ак-Булака, освещённую мёртвым светом Луны, «долину роз», засыпанную снегом и песком, видит Господь Бог!
Конец
Июнь 1921 года Константинополь
Указатель географических названий
Александров Гай – село, расположенное на берегах реки Большой Узень, в 46 км юго-восточнее города Новоузенск. В настоящее время административный центр и крупнейший населённый пункт Александрово-Гайского района Саратовской области.
Антонов (Антоновский форпост, посёлок Антоновский, Антоново (до 1994 г.) – посёлок станицы Сахарновской, располагавшийся на правом берегу реки Урала и входивший во 2-й Лбищенский военный отдел Уральского казачьего войска. В настоящее время село Атамекен в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.
Баксайский (Баксаевская крепость, Баксаевский посёлок) – населённый пункт, входивший в 3-й Гурьевский военный отдел Уральского казачьего войска. В настоящее время – посёлок Актогай в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. Крупный железнодорожный узел на линии Туркестано-Сибирской магистрали.
Барановский (Барановская станица, Барановский посёлок, Барановка (до 1994 г.) – посёлок, входивший во 2-й Лбищенский военный отдел Уральского казачьего войска. В настоящее время село Самал в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.
Богатский (Боготинский хутор, Богатский посёлок, Богатск, Багатск) – посёлок, располагавшийся на правом берегу реки Урал (протока Старый Урал) и входивший во 2-й Лбищенский военный отдел Уральского казачьего войска. В настоящее время село Богатск в Байтерекском (до 2019 – Зеленовский) районе Западно-Казахстанской области Казахстана.
Бударин (Бударинский форпост, Бударин, станица Бударинская, Бударино) – населённый пункт, находившийся на правом берегу реки Урал и входивший во 2-й Лбищенский военный отдел Уральского казачьего войска. По преданию, своё название станица получила от будары (рыболовной лодки), которая полная деньгами была зарыта в одном из ближайших оврагов. Многочисленные попытки найти эту будару успехом не увенчались. Известен тем, что 17 (28) сентября 1773 года с Бударинского форпоста начался поход яицких казаков под предводительством Емельяна Пугачёва на Яицкий городок (г. Уральск), что послужило началом Крестьянской войны в России 1773–1775 годов. В настоящее время село Бударино в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.
Бузулук – город в Оренбургской области России и одноимённая железнодорожная станция Южно-Уральской дороги. До 1934 года город входил в состав Самарской губернии и Средневолжской области.
Генварцевская (Генварцевский форпост, Генварцевская станица, Январцевский посёлок, Январцево) – населённый пункт, располагавшийся на правом берегу реки Урал и входивший в 1-й Уральский военный округ Уральского казачьего войска. В настоящее время – село Январцево в Байтерекском (до 2019 г. – Зеленовский) районе Западно-Казахстанской области Казахстана.
Горский (Горская крепость, станица Горская, посёлок Горский, Горы (до 1993 г.) – посёлок, располагавшийся на правом берегу реки Урал и входивший в 3-й Гурьевский военный отдел Уральского казачьего войска. В настоящее время аул Аккала в Индерском районе Атырауской области Казахстана.
Горячинский (Горячинский форпост, Горячинская станица, Горячинский посёлок, Горячкино (до 2007 г.) – посёлок, располагавшийся на правом берегу реки Урал и входивший во 2-й Лбищенский военный отдел Уральского казачьего войска. В настоящее время село Мойылды в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.
Гурьев (с середины XVII в. назывался Нижний Яицкий городок или Усть-Яицкий городок, с XIX в. – Гурьевский городок, позднее просто Гурьев) – город, основанный на месте деревянного острога, построенного в 1640 году русским купцом Гурием Назаровым. Располагается в устье реки Урала (Яика) при впадении в Каспийское море. Позднее острог перешёл под власть Яицкого казачьего войска. В 1647–1648 годах по царскому указу, город был возведён из камня. В настоящее время – город Атырау (переименован в 1991 г.), административный центр Атырауской области Республики Казахстан.
Джамбейтинская Ставка (посёлок Джамбейты, Джамбейта) – населённый пункт, расположенный в 100 км восточнее Лбищенска, важная опорная база белых войск в Уральских степях. Посёлок был основан в конце XIX века в связи с образованием одноимённого уезда. К началу XX века Джамбейты – крупный торговый посёлок, насчитывающий не менее 2500 жителей, и удалённая застава Уральского казачьего войска, в котором была расквартирована казачья сотня. В настоящее время село Жымпиты (переименован в 1992 году) в Казахстане, административный центр Сырымского района Западно-Казахстанской области.
Джармыш – небольшой киргизский аул на полуострове Мангышлак.
Екатеринодар (с 1920 года – Краснодар) – город на юго-западе России, расположенный на правом берегу реки Кубани. Основан в 1792 году как крепость под названием Екатеринодар, в честь тезоименитства императрицы Екатерины II. Название крепости было изначально употреблено в его прямом значении – «дар Екатерины»: город был заложен на земле, пожалованной Екатериной II Черноморскому казачьему войску. В настоящее время – крупный экономический и культурный центр Северного Кавказа и Южного федерального округа Российской Федерации.
Жилая коса – посёлок, в XIX – середине ХХ-го века один из крупнейших центров рыбного промысла в северо-восточной части Каспия, где добывалась и обрабатывалась красная (осетровые) и чёрная (частиковые – судак, жерех, лещ и т. д.) рыбы. Имел пароходное сообщение с Астраханью и Гурьевым. Упоминается во множестве источников, касающихся жизни и промыслов Уральской области. В 1960-х годах посёлок исчезает с карт России.
Зелёная (Зеленовский хутор, станица Зелёная, посёлок Зелёный, Зелёное) – населённый пункт, располагавшийся на реке Деркул. В настоящее время – село Зелёное в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.

