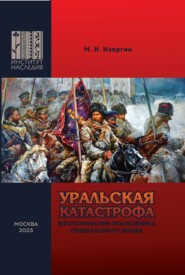 Полная версия
Полная версияУральская катастрофа. Воспоминания полковника Генерального штаба
В первых числах ноября мне пришлось временно покинуть штаб Уральского корпуса и выехать сначала в Калмыков, где в это время находился атаман и штаб армии. Я оставил корпус в том его состоянии, которое ещё не имело очевидных признаков возможности катастрофы в ближайшем, по крайней мере, будущем, измеряемом многими неделями, в состоянии такого рода, когда люди как-то безотчетно закрывают глаза на действительность и будущее, состоянии, наконец, полного безразличия, что на русском многогранном языке выражается игрой слов «Будь что будет!». Готовность ко всему не есть ещё отчаяние…
Прошло с лишком две недели.
Я возвращался из Гурьева на фронт. К вечеру дня выезда из Гурьева я был в станице Зелёной, где остановился на ночлег. Погода в этот день стояла несколько пасмурная, но тёплая, без ветра. Ничто не предвещало резкой в ней перемены. Однако отсутствие признаков такой перемены не исключило того, что утром следующего дня мы увидели степь и самою станицу Зелёную под снегом. Два дня длилась снежная буря, что совершенно исключало всякую возможность продолжать путь каким бы то ни было способом. Только на третий день вынужденного сидения в Зелёной, когда буря несколько улеглась, заменив автомобиль санями, закутавшись в овчинный тулуп, предложенный мне моим добрым хозяином-уральцем, я покинул эту станицу. Скоро наступила оттепель, и я ещё раз должен был изменить способ передвижения – оставить сани и вернуться в знакомой мне тарантас.
18-го ноября, когда уже стемнело, в невылазную грязь, в непроницаемую тьму и туман, на выбившихся из сил паре тощих лошадей я добрался до Калмыкова, где нашёл полковника Моторного, видеть которого для меня было очень важно.
У полковника Моторного я застал генерала Акулинина, одного из командиров корпусов не существующей теперь Южной армии. Его рассказы об участии этой армии ничего нового к тому, что мы уже знали, не добавляли. Мы не только знали, но и чувствовали на себе последствия драмы. Появление генерала Акулинина на горизонте Калмыкова было лишь конкретным доказательством ликвидации Южной и вообще Сибирской армии… Теперь генерал Акулинин пробирался на Кавказ.
Я не делал себе иллюзий и по дороге из Гурьева в Калмыков положение у нас на фронте представлял себе тяжёлым, но далеко не в той степени, как это оказалось в действительности.
Из долгой беседы с В. И. Моторным выяснилось…
Тиф, фураж, транспорт, я хочу сказать, наличие первого и отсутствие второго и третьего, – вот те три слова, которые определяли безотрадность положения и перед которыми слово – враг, красные, большевики – стали обозначением фактора второстепенной важности.

Последнее сражение на Уральском фронте
Тиф принял размеры невероятные. В войсках заболеваемость выражалась 40–50 %, среди населения, а главным образом, в среде беженцев и пленных она была ещё выше. Так как средств борьбы с эпидемией, что выше нами было отмечено, не было, то в процентном отношении заболеваемость равнялась, или почти равнялась, смертности. В частности, в Калмыкове буквально не было ни одного не зачумлённого дома. Здесь ежедневно хоронили, вернее сказать, отвозили на кладбище 20–25 человек и там оставляли их не похороненными, так как рыть могилы было некому.
Сено в районе расположения корпуса было съедено. Дальние фуражировки не могли обеспечить в самой минимальной доле потребность в сене, и конница, основная сила корпуса, стала утрачивать значение этой силы.
Транспорт стал…
Уральская область дошла до предела напряжения своих сил. Что могло её спасти? Только чудо. И как это ни покажется странным, вера в чудо в эту тяжёлую пору жила в уральце и только ею он реагировал на слишком очевидную угрозу гибели. Но одного чуда было мало, нужен был ряд чудес!
Так В. И. Моторный обрисовал мне положение в вечер моего приезда в Калмыков.
В семье В. И. Моторного: жена и двое детей, тоже неблагополучно – больна его старшая восьмилетняя дочь Женя. Началось тифом, продолжилось осложнением в форме менингита и водяного рака, болезни, о существовании которой теперь я узнал впервые. День моего приезда к Моторным был восьмым днём полного её беспамятства! За что несёт такие страдания существо, которое виновно только в том, что не по своей воле стала жить на земле? Она неизбежно умрёт. Если это неизбежно, то чем скорее, тем лучше… Я уклонился в сторону, но я не мог пройти мимо…
20 ноября я выехал из полумёртвого Калмыкова в штаб корпуса, находившегося в это время в Лбищенске. Дорога подмёрзла и мне удалось легко и быстро доехать по назначению. Уже начиная с Сахарновской станицы стали встречаться обозы беженцев. По мере приближения к Лбищенску число этих обозов возрастало. Всё это тянулось на юг, оставляя по сторонам дороги павших верблюдов и лошадей. Нечто подобное, но теперь ещё более безобразное, ещё более удручающее, чем то, что мы видели с моим Семёном в июле, подъезжая к Бударину. Не буду описывать ни впечатлений, ни чувств, которые вызывались во мне видом этих «выкочевавших, блуждающих» по степи станиц – обозов, наполненных домашним скарбом, часто ненужным, больными, умирающими или уже умершими людьми. Скажу лишь, что после надежды на чудо только ненависть к врагу, ненависть, превышающая страх перед угрозой почти неизбежной гибели, могла выгнать людей в эту пору года в степь и заставить их идти неизвестно куда.
Лбищенск дополнил мои калмыковские и путевые впечатления. В штабе корпуса я нашёл лишь половину того личного состава, в котором я его оставил меньше месяца тому назад. Корпус, теперь так называемый, как сколько-нибудь организованная сила перестал существовать. Сохранились названия дивизий, полков, батарей, но под ними теперь надлежало разуметь жалкие остатки людей, уцелевших от тифа, и лошадей, ещё не околевших от бескормицы. Наша конница, говорили казаки, теперь только «ходит».
Выпал снег. Наступили холода. Урал стал.
За время моего отсутствия в корпусе произошло следующее.
14-го ноября, после долгого сидения в Скворкине, туманным утром красные перешли в наступление. Янайкин был оставлен почти без сопротивления в тот же день. Далее – точное повторение красными наступления, которое они проделали летом, оттеснив нас к Калёному с той существенной разницей, что теперь они двигались на юг почти беспрепятственно.
К моменту моего возвращения в штаб корпуса в Лбищенске красные занимали Бударин. Расположение частей корпуса в это время приблизительно было следующим: передовые части пехоты полковника Емелина находились 4–5 вёрст южнее Бударина. Гурьевский и Уральский пехотные полки, 1-й Партизанский Конный полк 2-й Уральской дивизии и первая батарея есаула Юдина – в Лбищенске. Конный отряд полковника Кириллова, по слухам, находился где-то в районе Чулан-Анкоты, 100 вёрст северо-восточнее Лбищенска. Полки 6-ой дивизии, спасаясь от бескормицы, ушли по направлению Сламихинской станицы. О местонахождении 2-ой дивизии сведений не было.
25 ноября штаб корпуса перешёл в посёлок Горячкинский, а 26-го красные продолжали наступление, если можно определять этими словами действие, произведённое ими в этот день с целью овладения Лбищенском. Несмотря на всю незначительность и мизерность событий под Лбищенском в это 26 ноября, я должен сказать о них несколько слов, так они, эти события, были последней печальной и жалкой попыткой Уральского корпуса проявить минимальную боеспособность.
Около 8-ми часов утра указанного дня две-три сотни красной пехоты с несколькими разъездами вышли из станицы Кожехаровской и по большому тракту стали двигаться к Лбищенску. Получение донесения о движении противника почти совпало с приездом в штаб корпуса атамана. Его сопровождал майор английской службы О'Брайен, начальник миссии при штабе Уральской армии.
Было солнечно, но очень холодно – дул резкий, пронизывающий северянин.
В то время как прибывшие отогревались и пили чай, примерно через час по получении первого донесения, было получено второе, в котором говорилось уже об оставлении нами Лбищенских позиций и самого Лбищенска. Быстрота, с которой протекали в это утро события, указывала, несомненно, на то, что авангард полковника Емелина отходил без боя.
По получении второго донесения мы, я хочу сказать – атаман, майор О'Брайен и я, решили выехать вперёд и посмотреть, что происходило в действительности между Горячкинским и Лбищенском.
Горячинский был забит войсковыми и беженскими обозами в той степени, что нам с трудом удалось выбраться на большую дорогу. Первое, что на нашем пути мы встретили, была батарея есаула Юдина. Последний доложил, что он снял свою батарею с позиции потому, что между ним и противником никого не было – пехотный авангард оставил позиции и ушёл в долину Урала…
Перед нами расстилалась покрытая снегом степь, а впереди, в удалении десятка вёрст, был виден Лбищенск, над которым висела чёрная дымовая туча – горел склад артиллерийских снарядов, недавно прибывших из Сибири. Изредка слышались глухие взрывы. Никаких признаков жизни…
Фронт Уральской армии фактически был открыт.
Это положение противником использовано не было.
Описанным выше эпизодом, рисующим полный упадок боеспособности 1-го Уральского корпуса и умеренность наступательного порыва у красных, заканчивается вооружённая борьба на Уральском фронте и сопротивление уральцев постигшему их бедствию перемещается в иную плоскость, принимает иные формы.
На следующий день атаман и майор, немало смущённые тем, что они видели на поле сражения под Лбищенском, отбыли в Гурьев.
Пехотный авангард полковника Емелина, покинувший позиции, к ночи, не преследуемый противником, долиной замёрзшего Урала доплёлся до Мерченева.
К 1 – му декабря и отряд полковника Емелина, и штаб корпуса перешли в посёлок Круглый. Противник, заняв Лбищенск, остановился.
Заканчивая первую часть моего печального повествования, чтобы не оставить картину общего положения в Уральской области к началу декабря 1919 года неясной, считаю не лишним привести здесь некоторые дополнительные данные, касающиеся этого положения.
В последние дни ноября Конный отряд полковника Кириллова из района Чулак-Анкота перешёл в район посёлков Калёный – Антонов, где он был расквартирован, вернее, где он разместил своих больных.
О полковнике Горшкове, который заместил полковника Бородина, убитого под Лбищенском, и о его 6-ой дивизии сведений не было. Говорили, что он ушёл в направлении Царицына.
Илецкий корпус распался окончательно: от него оставались жалкие отряды, которые без связи и руководительства, вместе с беженцами, блуждали по степям малой Киргизской Орды. Эпидемия тифа свирепствовала здесь ещё с большей силой, чем у уральцев.
Станицы к югу от района расположения корпуса, ещё не разорённые, были переполнены войсками и беженцами до предела вместимости этих станиц. Ясно, что в таких условиях смертность принимала размеры совершенно невероятные.
Воззвание атамана к населению с убеждениями не покидать уцелевшие станицы успеха не имели. Гонимое какой-то сатанинской силой, это население, погибая от эпидемии, от голода и холода, неудержимо, стихийно шло на юг.
Так безотрадно сложилась обстановка в Уральской области к началу зимы 1919 года.
Вторая часть
Пятьдесят пять дней
Оставление Гурьева
По оставлении нами Лбищенска, как было уже сказано, 27 ноября, красные беспрепятственно заняли посёлок Горячинский. Штаб корпуса перешёл в станицу Круглую. Это положение оставалось неизменным до 10-го декабря. Красные почему-то медлили с наступлением. Это промедление, как это ни странно, имело для нас самые гибельные последствия: оно привело к тому, что мы были прижаты к Каспийскому морю в тот момент, наихудший из всех возможных, когда это море стало для нас недоступным.
В первых числах декабря мне пришлось ещё раз покинуть штаб корпуса и выехать в Гурьев. Рассчитывая вернуться не далее, как через неделю, я оставил моего вестового с моими вещами в Круглой, о чём потом мне пришлось очень сожалеть.
Подчиняясь общей участи, на третий день по приезду в Гурьев, я заболел, конечно, тифом. Вернуться на фронт мне не было суждено. Меня поместили в доме богатого коммерсанта в Гурьеве Чампалова. Если я уцелел и теперь могу описывать дни уральской катастрофы, то обязан этим исключительно заботам главного врача Гурьевского госпиталя.
Период времени от начала моей болезни до оставления Гурьева, вернее, вторую половину декабря, я отмечу некоторыми эпизодами, которые хоть в малой доле обрисуют хаос, царивший в Гурьеве в указанный период.
Потеряв надежду и возможность вернуться на фронт, я просил штаб корпуса в Круглой командировать моего вестового с моим несложным багажом в Гурьев. На эту мою просьбу я получил ответ совершенно неожиданный и в такой же степени меня удручающий: мой Семён выстрелом в голову покончил свои дни. До сих пор и, вероятно, навсегда, это самоубийство останется для меня нерешённой загадкой. Как я жалел, что, уезжая из Круглой, я не взял Семёна с собой…
В комнате Чампаловского дома я уже не один: в день получения мною известия о смерти Семёна ко мне в комнату поместили привезённого с проблематического фронта начальника не менее проблематической 1-ой Уральской дивизии, больного тифом, полковника Кириллова. Днём позже часть комнаты, оставшаяся свободной, была занята начальником школы юнкеров полковником Донсковым. Эта часть комнаты для Донскова была последним земным этапом.
К описываемому моменту только прибрежная полоса Каспийского моря, полоса в 25–30 вёрст шириной, была покрыта слабым льдом, что исключало, с одной стороны, подход судов Каспийской флотилии к Печным островам, и с другой, сообщение этих островов с берегом. В течение 22 и 23 декабря над Каспийским морем свирепствовал ураган. Направление ветра позволяло надеяться на то, что лёд будет сломан и отнесён к востоку, что могло дать свободу движения судам флотилии. Но этого, к крайнему нашему несчастью, не случилось: ураган льда не сломал и не унёс его к востоку. Перед непреодолимой стихийной действительностью надежда на спасение морским путём была оставлена.
Утром накануне Рождества по н/с меня навестили В. И. Моторный и Г. И. Сладков. Они ознакомили меня с нижеизложенным положением: атаман приказом от 20 декабря передал власть «Комитету Спасения Войска». Такой приказ для меня, как и для моих гостей, был полной неожиданностью. Вместе с этим, было совершенно непонятным то, что приказ, касающийся не более и не менее как реконструкции власти, был издан без ведома начальника штаба армии, которой командовал атаман Толстов. Чтобы быть объективным, надо здесь сказать, что новая власть, не проявляя признаков большевистской организации, оказалась в условиях переживаемого критического момента абсолютно бессильной изменить что-либо в самодовлеющем ходе событий. Напротив, народившийся «Комитет Спасения» внёс лишнюю путаницу в уже царивший в Гурьеве хаос.
Со дня на день положение в Гурьеве становилось всё более и более тревожным. Красные продвигались медленно, но неуклонно. В данный момент они занимали станицу Горскую, 50–60 вёрст к северу от Гурьева.
Незадолго до появления «Комитета Спасения» распоряжением атамана были упразднены все тыловые учреждения армии в Гурьеве. Из личного состава упразднённых учреждений был сформирован отряд, который, получив наименование «Атаманского Отряда Спасения», должен был принять на себя роль авангарда несуществующей Уральской армии. Как показывает название отряда, он возглавлялся самим атаманом. Рядовыми в отряд попали писаря, чиновники, офицеры – часто инвалиды, даже старые генералы. Несмотря на то, что в отношении обмундирования, вооружения и продовольствия отряд был обставлен более чем удовлетворительно, не трудно представить себе, что представляло из себя это импровизированное войско в боевом отношении. До фронта отряд не дошёл, да и не мог дойти, так как таковой не существовал. Теперь он определялся наименованием той станицы, которую в тот или иной момент, двигаясь на юг, занимал противник. «Отряд Спасения» так же быстро исчез, как быстро появился…
Между тем, пока «Отряд Спасения» шёл на фронт спасать положение, огромные обозы беженцев, покидая станицы к северу от Гурьева – Сарайчиновскую, Редутскую и самый Гурьев, стали уходить караванной дорогой на восток, к станице Жилая Коса.
Утром 27 декабря члены британской миссии – капитаны Седдон и Брокелбенк с их переводчиком штабс-капитаном Запаловым и полковник Сладков собрались у меня, в доме Чампалова. На этом собрании не присутствовали ни начальник майор О'Брайен, ни полковник Моторный, накануне заболевшие тифом.
Обсудив положение и обстановку, степень драматичности которых была достаточно высокой, мы пришли к следующим решениям:
1. Уходить из Гурьева сколь возможно незамедлительно.
2. Ввиду того, что лёд у берегов был достаточно прочным, идти до Жилой Косы, а при возможности и далее до Прорвы по льду на санях.
3. Просить инженера Урало-Каспийского Нефтяного Общества Мельбарта, в доме которого располагалась британская миссия, подготовить экспедицию в отношении транспорта и продовольствия.
Вечером того же дня я покинул моих товарищей по несчастью – Кириллова и Донского, и переехал в британскую миссию. Состояние моего здоровья заметно шло на улучшение.
Командование будущим отрядом, по просьбе миссии, я принял на себя.
В своём месте, где я говорил о суровом приёме, оказанном уральцам Каспийским морем, я упустил отметить некоторые обстоятельства, которые могли иметь для нас хорошие последствия. В холодные зимы, когда северные части Каспийского моря покрываются льдом, открывалось прямое сообщение, или, как говорят уральцы, «зимняя дорога» между Гурьевым и Фортом Александровским. Этот путь на санях уральцы делали в 2 1 ⁄2 дня. В те же морозные зимы для сообщения с Мангышлаком уральцы пользовались другим зимним путём, более коротким, Прорва – Заворот. К нашему полному неблагополучию переживаемая зима, до сих пор по крайней мере, была тёплой. Тем не менее, не теряли надежды на то, что придут рождественские морозы, которые открывают доступ к Завороту по льду.
Что происходило в Гурьеве и ближайших к нему станицах в дни второй половины декабря, мы видели. В интересах ясности картины общего положения я должен здесь сказать несколько слов об одном эпизоде, который послужит ответом на вопрос, что в те же дни творилось в станицах к северу от Гурьева, в станицах, противником ещё не занятых.
28 декабря противником были высланы парламентёры, в числе двух, станицу Зелёную, где ими были переданы атаману три письма: первое – за подписью (собственноручной) Ленина и Троцкого – народных комиссаров, второе – за подписью товарища Фрунзе, командующего 1-й армией, и третье – от начальника группы, действовавшей на Гурьевском направлении. Первое из них ничем не знаменательно, кроме разве тем, что оно подписано народными комиссарами персонально. Суть дела – во втором письме товарища Фрунзе. Как всякий ультиматум, это письмо содержало требование, обещание, срок на размышление.
Краткое содержание письма Фрунзе было следующим. Командующий 1-й Красной армии, отдавая полную справедливость героизму уральской армии, считает для себя невозможным продолжать вооруженную борьбу с противником, который путь своего отступления устилает трупами людей, погибающих от эпидемии. Исходя из этого, командующий армией предлагает прекращение боевых действий на условиях:
1) безусловной сдачи и сохранения жизни всех без изъятия;
2) сохранения складов всех назначений;
3) не уничтожения нефтехранилищ У.К.Н.О. в Доссоре и Ракуше[35];
4) безотлагательной высылки врачей, сестёр и санитаров в распоряжение Красного Креста для организации борьбы с эпидемией тифа;
5) ответ, да или нет, должен быть дан в двенадцатичасовой срок с момента, когда парламентёры покинут место свидания…
В порядке уставных правил парламентёры были препровождены на линию расположения противника. Ультиматум товарища Фрунзе остался без ответа. Атаман незамедлительно для переговоров якобы с «Комитетом Спасения» выехал в Гурьев, причём при проезде, вернее на выезде из Яманхалинской, где находился в это время «Отряд Спасения», несколько пуль пролетело мимо атаманского автомобиля.
30 декабря атаман со своим личным конвоем покинул Гурьев и пошёл по направлению… Жилой Косы. Произошло ли это до переговоров с «Комитетом Спасения» или после, сказать трудно. Но это большого значения не имеет. Важно то, что, во-первых, самый факт переговоров с противником и, во-вторых, обещания товарищем Фрунзе журавля в небе могли внести сомнения в сердца кого угодно, но не уральцев. Я думаю, что некоторый успех обещания красных могли иметь успех в иногородней среде воинских частей и населения области, Гурьева, главным образом.
Эпизод переговоров с противником был заключительным аккордом первого акта Уральской драмы. С этого момента всякие признаки организованности отступления исчезают. Противник в своём движении дальше на юг перешёл из боевого наряда в порядок походных колон.
Конец уральской армии и, вообще, Уральской области, точно совпал с концом 1919 года.
Уральская армия до конца выполнила свою роль и назначение в период гражданской войны. Но её вина в том, что армии, которые она связывала, оказались неспособными решить задачи, на них возложенные.
30-е декабря было последним днём приготовлений к отъезду, а 31-го в 2 часа пополудни мой, скажем, экспедиционный отряд собрался на льду гурьевской пристани, той самой пристани, где ровно полгода тому назад ошвартовалась рыбница, доставившая нас, меня и моего покойного вестового, с «Экватора» в Гурьев.
Теперь эта пристань служила пунктом отправления отряда, который впредь мы будем называть «Русско-британским экспедиционным отрядом» или, для краткости, Р.Б.Э.О. О личном составе Р.Б.Э.О. я скажу подробно ниже, а теперь ограничусь отметить, что в момент отъезда отряда с гурьевской пристани он насчитывал в своём составе 45 лиц – мужчин, женщин и детей, не считая десяти киргиз – кучеров.
К указанному выше часу на пристань были доставлены два десятка одноконных саней, именуемых на Урале «оханными». Это род наших розвальней или дровней, но значительно большей прочности и грузоподъёмности – 2–2 16 тоны. Такой груз одна лошадь передвигает по льду, почти не делая усилий.
Всё необходимое для жизни отряда было погружено в сани. Продовольствие, конечно, прежде всего: хлеб для людей и фураж для лошадей. Хлеб был заготовлен частью в виде так называемых «витушек», приготовляемых специальным способом, устраняющим их быструю чёрствость, частью в виде муки. Мясо, макароны, сахар и так далее; для ночлега и против непогоды – четыре палатки системы Кебке и пять «кошар» или «юрт»[36]. Вместимость палатки Кебке и кошары одна и та же – 8-10 человек…
Надо отдать справедливость организатору нашего отряда инженеру Мельбарту, который не упустил из виду ни одной мелочи, предвидя все трудности предстоящего похода. Учитывая, например, что лошадь, теряя подкову, абсолютно теряла способность передвижения по льду, он не упустил озаботиться запасными; им предусмотрены полевые печи. Треножники, необходимая посуда, дрова, верёвки, керосин, спички. Карты, барометр, термометр, бусоль… Всего не перечислить. В дни приготовлений к выступлению Мельбарта можно было видеть везде на его уральском маштаке…[37] Как много может сделать энергия только одного человека в тяжёлую минуту!
Если теперь я излагаю все эти подробности, то делаю это потому и для того, чтобы рассказать, что если бы все те, кто покидал в эти мрачные дни Уральскую область, могли хоть в малой доле реализовать организацию инженера Мельбарта, то было бы возможно спасти много, очень мног человеческих жизней…
Верблюд на льду абсолютно беспомощен, подковывать его нельзя. Поэтому десять верблюдов, предназначенных для нашего отряда, накануне были высланы из Гурьева в Жилую Косу сухим путём.
Нагружен багаж отъезжающих. У дам он изобилует чрезмерно.
Были приведены лошади. После долгих неистовых криков и споров наших киргиз-проводников лошади всё же были запряжены. К отъезду всё было готово.
Стрелки моих часов показывали 3 часа 45 минут, когда головные сани, в которых находился больной майор О'Брайен, тронулись в путь…
Прошло почти 30 лет со времени описываемых событий. Срок большой, но не исключает того, что ещё остаются в живых люди – участники и свидетели уральской драмы и, в частности, нашего экспедиционного отряда, люди, в руки которых, быть может, попадёт моя печальная повесть и напомнит им отдалённое, но много говорящее их сердцам.
Поэтому я считаю не лишним привезти точный, поимённый список личного состава отряда. Весь состав британской миссии: майор О'Брайен, капитаны Седдон и Вронелбенн, сержант Биверс, солдаты английской службы Делени и Би; штабс-капитан А. С. Зинало, переводчик при миссии и его денщик Соломахин Иван. Инженер-топограф К. Я. Мельбарт, полковник генерального штаба Липугин с женой, двумя девочками и двумя оренбургскими казаками. Жёны и дети уральских офицеров, убитых во время гражданской войны: madame Мизинова с дочерью и её старым слугою Иваном Егорычем; madame Карпова с дочерью; madame Куракина с сыном, дочерью и с двумя уральскими казаками; поручик Попов с женой, сыном, дочерью и двумя оренбургскими казаками; начальник радиостанции поручик Буцков, подпоручик Рахманинов, солдат Боршоглевский; восемь телеграфистов и десять киргиз.

