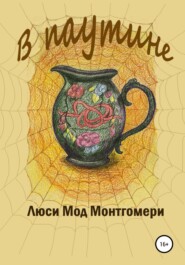
Полная версия:
В паутине
И подумать только, что подобный номер выкинула Джоселин! Ладно бы ее пустоголовая сестрица Милли – от этой ничего иного и не ожидали, и ей, чего греха таить, легко бы все простилось. Но никто и мысли не допускал, что на такое способна благоразумная Джоселин. Поэтому как раз ее простить не могли. Хотя самой Джоселин, похоже, было безразлично, простят ее или нет. Никакие мольбы ни на дюйм не сдвинули ее с занятой позиции.
– Вся в отца… Он был таким же, помните? – рыдала миссис Клиффорд Пенхоллоу. – Никогда не менял своих решений.
– Однако Джоселин свое изменила. В тот вечер, в Тривуфе, – возражали ей. – Что произошло, Мэвис? Тебе, ее матери, это должно быть точно известно.
– Откуда я могу знать, если она мне ничего не говорит? – огрызалась миссис Клиффорд. – Никто из вас и представить себе не может, как она упряма. Просто сказала, что не вернется к Хью, и все. Даже обручальное кольцо носить не будет. – Последнее обстоятельство особенно удручало миссис Клиффорд. – Никогда не встречала большей упрямицы.
– И как нам теперь ее называть? – причитал клан. – Она ведь стала миссис Дарк. Это изменить невозможно.
На острове Принца Эдуарда[3], где за шестьдесят лет случился лишь один развод, и впрямь ничто не могло этого изменить. Никому и в голову не приходило, что Хью и Джоселин посмеют развестись. Дарки и Пенхоллоу, все до одного, умерли бы от такого позора.
Лет через десять волнения и толки вокруг таинственной истории сами собой сошли на нет, и лишь особенно упорные продолжали гадать, не появится ли с запада мифическая жена Хью. Все прочие приняли сложившееся положение дел как неизменное и непреложное. Люди и думать забыли о том давнем происшествии и возвращались к нему мыслями лишь в тех редких случаях, когда жизнь сводила Хью и Джоселин под одним кровом. Тогда бесплодные гадания возобновлялись.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Сведенборгианцы – последователи учения шведского духовидца и теософа Эммануила Сведенборга (1688–1772), основавшие в 1787 году в Лондоне особую Церковь Нового Иерусалима, которая быстро распространила свое влияние на Великобританию и США. – Здесь и далее примеч. перев.
2
По-видимому, речь идет о трудах американского публициста Роберта Грина Ингерсолла (1833–1899), выступавшего в защиту агностицизма (философской доктрины, утверждающей, в частности, что люди не могут знать ничего достоверного о Боге).
3
Остров Принца Эдуарда, где происходит действие романа, располагается на востоке Канады и считается отдельной ее провинцией.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

