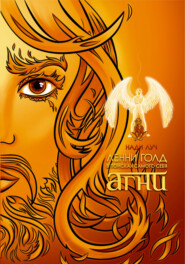скачать книгу бесплатно
Указатель на дороге сообщил, что они въезжают в Браунауам-Инн, маленький городок на границе между Германией и Австрией. Ветерок с его стороны окатил их лица струей влажной свежести, знаменуя приближение воды, и растворился в звенящем зное. Как оказалось, кордоном между двумя странами служила неширокая, но глубокая река, текущая размеренно и безмятежно между затененными деревьями берегами.
Оставив фургон на окраине под присмотром фермера, задобренного щедрой платой, они вошли в прелестный, неплохо сохранившийся средневековый городок с узкими улочками.
Колокола пробили полдень. Солнце неподвижно застыло в безоблачном небе. Было жарко, душно, пыльно, сонно.
Чивани и Ленни, не спеша, шли по закоулкам околицы к центру города, который вроде как застыл в липком мареве летней жарищи, где любое, мало-мальское движение казалось противоестественным. Все жители попрятались за толстые стены домов в ожидании хоть малейшей прохлады. Только немногочисленные смельчаки забились в тень уличных кафе и почти неподвижно потягивали из бокалов ледяное пиво. Поэтому неожиданное появление на городской площади, по периметру которой выстроились в плотный ряд нарядные домики местной знати, колоритной, обращающей на себя внимание компании, вызвало заметное оживление. Все взгляды сосредоточились только на них, на старой цыганке в яркой одежде и зеленоглазом, рыжеволосом юнце.
А они шли наугад, куда вели ноги, изредка лениво переговариваясь или делая короткие замечания, их хранители следовали за ними чуть поодаль.
Чивани и Ленни пересекли площадь и пошли по узкой улочке. По обеим сторонам мощеной дороги стояли аккуратные двухэтажные домики зажиточных бюргеров с колоннами и лепниной, свежеокрашенные разноцветной пастелью. По цвету домов можно было определить повседневное занятие их владельцев: желтый – хозяин гостиницы, зеленый – содержатель харчевни, синий – пекарь, красный – мясник.
Когда они проходили мимо желтой, трехэтажной дешевой гостиницы, ангелы неожиданно приблизились к ним вплотную и даже накрыли крыльями. От вида здания у Ленни вдруг сжалось сердце и перехватило дыхание, он даже остановился. Так тело мальчика отреагировало на присутствие зла, которое он уже встречал, и чье имя Адольф Гитлер.
– Ты что-то чувствуешь?
Остановилась и чивани.
– Зло. Здесь родилось зло.
– Чувствительный мальчик, – пробормотала та, кто думала, что еще рано говорить об этом с 11-летним учеником.
– Как ты это чувствуешь?
– Я вижу. Вон из тех окон прямо льется черный туман. Он змеями опутал каждого, кого мы встречали. Он делает их безвольными и ведомыми. Хозяин этих излучений настолько силен, что люди не могут сопротивляться ему даже в его физическое отсутствие. А ты не видишь?
– Нет. Я чувствую зло по-другому, чем ты. Когда рядом опасность, огонь во мне растекается по всему телу, золотая богиня активизируется, распаляется, даже искрится. Однажды я гадала одному пареньку. С виду вообще нельзя было бы сказать, что у ничем внешне непривлекательного заморыша, мог быть такой сильный хранитель. Я чуть не сгорела от любопытства и пристала к нему. Так вот, прямо на моих глазах из него появился второй черный ангел. И по ощущениям этот дом – место его рождения. Я никогда не любила Браунау из-за того, что здесь чуть ли не каждый житель занимается спиритизмом или магией и, возможно, из-за этого тут не счесть мертвых духов.
Ленни пригляделся. И вправду, они были везде, но к ним не приближались, оглядывались, интересовались, но даже не пытались подступить.
Дальше дорога вывела их к главной достопримечательности захолустного городка – собору в стиле барокко, с высокой башней с часами и колоколами, звонящими каждый час.
На его паперти сбились кучкой немногочисленные нищие, рассчитывающие получить деньги у отмаливающих свои грехи более имущих грешников. От их вида и запаха начинало тошнить, и душу заполняла не жалость, а отвращение и подспудное желание не видеть их протянутые трясущиеся, но требовательные руки, и не слышать многоголосый хор фальшиво-жалобного нытья.
Странную, по невысказанному мнению, пару неместных прохожих они пропустили мимо себя молча, проводили внимательным взглядом затекших, воспаленных глаз. Было отмечено, что эта парочка хотя и бедна, но не до крайней нужды, не голодна и абсолютно здорова. Цыган они никогда не трогали, зная, что одно из их основных занятий – профессиональное попрошайничество, и боясь их проклятий на свою уже и так проклятую жизнь. А сила и уверенность, сквозящие в лице и походке мальчика, заставляли опускать глаза, избегать прямого взгляда.
Чивани мельком глянула на нищих и прокомментировала:
– Хотя мои соплеменники и не брезгуют попрошайничать, могу с абсолютной уверенностью сказать, что милостыня плодит нищенство, убивает чувство собственного достоинства и желание работать. Нужно давать деньги только тем, кто хочет выкарабкаться из ямы безнадеги, и кому действительно это поможет. Хотя… лишь бог знает, кто выберется.
Они прошли уже было мимо ступеней храма, когда от толпы отделился один жалкий, хромой, вонючий нищий, возраст которого не определялся из-за корки грязи на коже, споро заковылял к ним на палках, приспособленных под костыли.
– Такие сами на милостыню живут, – хрипло заметил кто-то из попрошаек, вызвав понимающие ухмылки. Толпа ожила в ожидании потехи.
Но нищий догнал чивани и крепко уцепился за руку с янтарным перстнем и что-то мычал, исказив и так безобразное лицо.
– Ты думаешь, она тебе этот перстенек отстегнет? – Толпа уже забыла о роли несчастных оборванцев, благо в такую жару ни один сердобольный прихожанин не мог стать свидетелем их болезненного веселья и начала потешаться вовсю.
Нищий приложился к руке лбом, пришамкивая, загундел просительно и слезно:
– Мать, прости меня, грешного, прости ты меня глупого, ради бога, мать.
«Что? Мама?! Она его мать?!» – Вихрем пронеслись вопросы в голове Ленни. А толпа изгалялась в остроумии:
– Похоже, он ей в любви признается.
– Ты что это перепутал цыганчу с Девой Марией?!
– Ха-ха-ха, с Марией Магдалиной до прихода Спасителя.
– Ох, и хороша… цыганская душа.
Толпа оборванцев уже истерично гоготала, хрюкала и ржала, плюясь и скаля беззубые, зловонные рты. Нечасто им выпадал случай поиздеваться над кем-то, всегда было с точностью наоборот. Забыв на пару мгновений боль, чесотку, обиды, словоблудием они завистливо мстили за себя и свою немощь, за паскудное существование отбросов общества.
Чивани начала раздраженно выдергивать кисть из цепких рук. Толпа уже улюлюкала.
– Она тебе отказывает? Проси настойчивей!
Нищему, чтобы встать на колени пришлось отбросить палки. Он не устоял на одной ноге, неловко плюхнулся на землю, пополз на карачках за не останавливающейся цыганкой, хватая ее за пышные юбки.
– Мать, прости, прошу тебя, не уходи, не простив меня. Скажи же хоть что-нибудь.
Чивани молча пыталась вырвать свои юбки из его не таких уж и бессильных рук. В ее лице слились воедино гнев, боль и решительность. Нищий уже не полз, а волочился по земле, не отпуская юбок, забавляя недоброжелательных насмешливых наблюдателей.
– О, какой он пылкий любовничек, оказывается.
Чивани отчаялась освободиться от прилипалы и поспешно, с выражением брезгливости сбросила с себя верхнюю юбку, оставив ее в руках нищего, а сама в нижних юбках решительным шагом двинулась вперед.
Толпа разразилась новым припадком смеха с грязными комментариями.
– Гляньте-ка! Какова баловница-то!
– Сними и мне юбочку, браток!
– Ой, розовенькая!
Ленни растерялся, помогать или не помогать чивани. Но почему ничего не делал ее ангел? Он стоял поодаль и наблюдал. И мальчик тоже решил не вмешиваться. Нищий зарылся лицом в юбку, судорожно хрипло рыдая.
– Мама… прости-и-и.
Чивани остановилась, медленно повернулась, сурово, но со слезами на глазах, смотрела недолго на копошащегося, как червяк, сына и тихо, однако, уверенная, что он ее слышит, сказала:
– Да простила я тебя, простила. Давно. И забыла. Но осознаешь ли ты сам, что ты хотел сделать? – Она с трудом сняла перстень с муравьем с большого пальца, бросила ему в лицо, резко повернулась и быстро двинулась прочь, уже не видя, как алчно блеснули глаза блудного сына, уже не слыша, как смолкли улюлюканье и дикий хохот, пораженной завистью толпы.
Ее ангел не пошел за ней, а остался и внимательно наблюдал исподлобья за действиями нищего. А тот встал на скомканную юбку двумя ногами без каких-либо признаков хромоты, расправил узкие плечи, держа перстень обеими руками, алчно глядя на него. Потом вытер об юбку ноги и презрительно сплюнул на нее. Надел на мизинец перстень и, не подобрав костыли, даже не хромая, зашагал прочь от храма. Только тогда ангел двинулся за подопечной.
С паперти сползла какая-то старуха, подобрала юбку и засунула ее себе в котомку, по привычке благодарственно приговаривая: «Благослови тебя господь, благослови тебя господь».
Ангел Ленни легонько тронул мальчика за плечо, и тот бросился вдогонку за флюидами душевной муки. Он быстро отыскал по ним чивани, которая ушла довольно далеко размашистым шагом задумавшегося о прошлом человека, долго не решался ни подойти, ни окликнуть, ни заговорить.
Найдя отдаленное местечко в тени деревьев маленького сквера, она уселась, закрыла глаза и позволила себе утонуть в море эмоций. Боль колыхалась в ней волнами, не периодичными приливами и отливами. То затапливала с головой и не давала дышать, пронося перед внутренним взором быстро сменяющиеся картинки насилия, избиения, родов, горя, отчаяния и стыда, то отступала, давая заполнить тело звенящей пустотой и облегчающей, расслабляющей тишиной. Понадобилось много времени, чтобы боль полностью растворилась, и она открыла глаза.
Чивани глянула на Ленни, молча сидящего рядом уже несколько часов и успевшего подремать, потрепала его по голове:
– Насколько я еще, оказывается, человек.
– За что ты так с ним?
– Ну, это длинная история. Рассказывать долго.
– Ты, наверное, никогда никому ничего не говорила о себе?!
– Да, это так. И начинать не хотелось бы. Но тебе кое-что расскажу. Ты должен знать некоторые моменты. Но воспринимай это не как некие сведения обо мне, а как… ну… сам потом разберешься.
Последовало длительное молчание, как будто в голове старой женщины шел отсев того, что можно говорить ребенку, а чего нельзя. Она порылась в нагрудной кожаной, расшитой бисером сумочке, которую всегда носила на себе, достала выцветшую потрепанную фотографию, посмотрела на нее, усмехнулась, протянула мальчику. Тот взял, глянул и оторопел:
– Кто это? – Ответа не последовало. – Какая красивая и… сильная, – провел большим пальцем по лицу, будто прикосновение помогло бы ему получить ответ.
– Это ты?!
Чивани сначала потерла морщинистый лоб рукой, потом белый след на пальце, с которого многие годы не снималось кольцо.
– Да, это я. Не знаю, почему я до сих пор не выкинула эту ненужную бумажку. Такой я когда-то была.
И полился ее неторопливый рассказ. Как будто она говорила сама себе, описывая картинку, стоящую у нее перед глазами.
– Я из рода румынских цыган. Мой отец до своей женитьбы был неуправляемым дебоширом и забиякой. Красивым, сильным, ловким, любившим свободу больше жизни. Спадающие на плечи, волнистые волосы делали его похожим на льва среди людей. За кажущейся медлительностью и показной степенностью скрывалась сила, недюжинный ум и нерастраченная страсть. Но любовь все расставила на свои места, заставила повзрослеть, остепениться, взяться за ум. Если раньше он был умным и сообразительным, то после свадьбы, не без помощи жены, он стал мудрым и проницательным. Юнец быстро превратился в опытного эксперта по части лошадей, с которым советовались и цыгане, и нецыгане. Благодаря ему наш табор стал поставщиком лошадей в армию, и даже дворяне искали у нас красивых горячих коней. С ним в таборе надолго воцарились зажиточность и сытость. Вскоре он стал вожаком. Непривычно молодым. Но все были довольны. Он хорошо владел румынским языком, без ругани, оскорблений и драк мог отстоять интересы табора у властей. Был справедливым и здравомыслящим. Он был настоящим хранителем древних цыганских законов, а не законодателем, и тем более, не тираном. Все мелкие ссоры и разногласия между своими решал беспристрастно и честно. Постепенно его авторитет укрепился и стал абсолютным, но был, скорее, духовным, а не мелким, корыстным, основанным на страхе и безоговорочном послушании соплеменников.
Моя мать, жгучая красавица, была первой травницей и целительницей на всю округу. К ней приходили за помощью со всех окрестных сел и городишек. Обучение меня этому искусству она начала, как только я произнесла первые фразы. Она водила меня по лесам и полям, где мы собирали травы, называла их, рассказывала о них. Первые два года я запоминала названия растений и их лечебные свойства, а затем она учила меня готовить мази, снадобья, смеси, припарки, порошки, настойки. Видя мой интерес к врачеванию, начала обучать исцелению руками. Но никогда не говорила, даже не упоминала о заклятиях и заговорах, использовала только молитвы Святому Духу. Всегда. Она умерла рано. Я, маленький ребенок, очень страдала, когда ее не стало. А как изводился мой отец! Он так больше и не женился и даже не смотрел на женщин, хотя они заглядывались на него. И воспитывал меня сам.
А я… Я была всеобщей любимицей, красива, своенравна, горда и в отца свободолюбива. И я еще не знала, насколько сильна. Многие мужчины хотели бы… – она остановилась, искоса глянула на внимательно слушающего мальчика, подыскивая подходящие для невинного уха слова, – завоевать мое сердце. Много было соблазнов и искушений деньгами, властью и страстью. Но законы табора для меня были превыше всего. Один из них: девушка должна блюсти невинность для будущего мужа. Не верь сказкам, что цыганки распутны. Знай, по их законам девушка должна выйти замуж девственницей, а после свадьбы быть верной мужу до своей или его смерти. Иначе – позорное изгнание и жизнь проклятого изгоя.
Я знала, что выйду замуж только по любви, что никакие посулы, клятвы не заставят меня продаться, поступившись гордостью и убеждениями, что моя сила в невинности, и не хотела терять ее ради прихотей тела. Я желала очень красивых супружеских отношений: пылкой страсти, лебединой верности, смерти в глубокой старости в один день с любимым. Романтическая чушь, конечно. Но все же красивая чушь.
Я полюбила. Была любима. Мы собирались пожениться, и даже был назначен день свадьбы. Но… Все было бы хорошо, если бы не мой язык и ущемленное самолюбие сынков местных богатеев, которым я всегда отказывала в благосклонности, высмеивая их похотливое отношение к молоденьким девушкам из низов, и которым я напророчила насильственную смерть и проклятие до седьмого колена. Сама же их и прокляла. Теперь-то я уже знаю силу своего проклятия: они сами и их род будут бессильны в любви, и все умрут рано и болезненно.
За несколько дней до свадьбы я как всегда гадала в центре города. И в очередной раз они пристали ко мне со своими скабрезными предложениями, опять оскорбились моим отказом и насмешками. Но в этот раз они были сильно пьяны, так распалены похотливым желанием, что жаждали развлеченья немедленно. Для них я была только красивой, экзотичной и строптивой куклой. Их было трое. И это все вместе взятое придало им решимости. Эта троица схватила меня, несмотря на упорное сопротивление, жестоко избила, зверски, будем называть вещи своими именами, изнасиловала. С меня сняли все украшения, монеты, вплетенные в волосы, срезали ножом. Девушкам-цыганкам не принято одевать монисту, это признак замужних женщин. Но невесты носят одну золотую монету, как кольцо при обручении у нецыган. Монета висела у меня на шее на кожаном шнурке. Так они чуть не задушили меня, пытаясь сорвать ее. Но когда очередь дошла до этого кольца… – чивани опять потерла белое пятно на пальце, хмыкнула, вспоминая.
– Уж не знаю, что заставило меня открыть глаза, но я четко увидела на шее наклонившегося надо мной молодчика и скручивающего перстень с большого пальца, белые руки, обхватившие его шею сзади и душившие его. Он задыхался от возбуждения садиста, лицо стало багровым. Мне было больно, но так интересно, что я не удержалась и сказала, еле выдавливая из себя звуки:
– О, гляди-ка, тебя задушат, – руки сжались сильнее, – завтра.
Он испуганно отшатнулся от меня, забыв о том, что делал и зачем. Тут же его оттолкнул напарник, понявший, что кольцо может достаться ему, склонился надо мной вместо него. Я забыла о боли, уязвленном достоинстве, меня захлестнула волна, как бы это сказать, радости что ли, от того, что я вижу тонкий мир, о котором так много говорят цыгане, чувствуют его, но не видят. Белые руки показали мне жест, обозначающий перерезание горла.
– А тебе, дружок, перережут горло, – я уже глумилась: – Не скажу точно, когда… – рука указала на мою монету, подарок жениха, выглядывающую из кармана жилетки, – а эту монету… засунут в рот, чтоб подавился. Ну, а дальше ты знаешь, я уже говорила тебе не так давно, проклятие, насильственные смерти всех, кто относится к твоему роду.
Я хрипло засмеялась, не могла остановиться. И он, забыв о кольце, ударил меня в лицо кулаком, чтобы заткнуть, вскочил на ноги, но я не удержалась и уже от себя добавила:
– Ой-ой-ой, скажу, когда, завтра и жди.
Увидев ненависть и страх, бледностью разлившиеся по его лицу, я засмеялась, нет, захохотала, булькая кровью в разбитом рту. Мне было больно везде, от пальцев ног до макушки головы, я захлебывалась кровью, но смеялась. О кольце забыли окончательно, но били долго, озверев от страха будущего возмездия и сиюминутной безнаказанности, тупо забыв, что я женщина. Но мне уже не было больно. Когда перестали бить, я все слышала, но ничего не чувствовала. Когда тащили за волосы, как тюк, когда связывали веревкой и волокли на ней, привязав к лошади, я открыла глаза и долго смотрела на звездное небо, в голове в такт движению билось только два слова «Матерь божья, Матерь божья». Меня словно укутало белым прозрачным покрывалом, и я перестала бояться смерти.
Меня выволокли за город в чистое поле, там и бросили, кровавое месиво из плоти и тряпок. Я долго лежала, глядя в небо. Не могла ни пошевелиться, ни стонать, ни дышать, пока белая пелена не закрыла мне глаза, и я не потеряла сознание.
– Чивани, прости меня за вопрос…
– Да спрашивай, чего уж там, сегодня день вопросов и ответов.
– А почему тебя… – замялся.
– Изнасиловали?
– Ты же могла сопротивляться.
– Видать в одной из прошлых жизней я не в меру жестоко, хотя какая мера может быть у жестокости, обошлась с теми тремя. Порой, задаваясь этим вопросом, я не раз восхваляла бога за то, что я не знаю, что я творила там, в своем прошлом. Но интересно было бы знать, за что дарован мне хранитель такой силы. Это да.
Она помолчала и продолжила.
– Меня нашли, подобрали и выходили какие-то сердобольные крестьяне. Их привела ко мне, как потом они рассказали, их коза. Всегда смирная и послушная, она вырвалась, умчалась в поле и встала надо мной. Разыскав ее, обнаружили и меня. Но как оказалось потом, это было не самое худшее.
Когда я выздоровела и достаточно окрепла, мне сказали, что моего табора, стоявшего на постое возле города, больше нет. Все мужчины табора отправили женщин и детей в бега, и во главе с вожаком или задушили, или перерезали глотки всем завсегдатаям кабака, где собирались сынки тамошних толстосумов, мстя за оскверненную невинность дочери, поруганную честь невесты прямо перед свадьбой и свою оскорбленную гордость. За это гнев горожан пал на весь табор. Оставшихся людей перебили, кибитки сожгли, хороших коней забрали, остальных отстреляли и оставили гнить в поле, убитых цыган закопали в одной общей могиле. Мой отец и жених полегли в той потасовке.
Как только оказалось, что я беременна, жалость хозяев ко мне закончилась, и они настояли, чтобы я ушла.
Я не хотела этого проклятого ребенка. Но не пошла против воли бога. Ибо всегда верила, он знает, что для меня лучше.
– Этот перстень, – чивани вытянула руку, поставив ее перед глазами, темную от загара, со светлой полоской от кольца на большом пальце. Длиннопалая, с большими суставами ладонь легла на красный диск заходящего солнца, – стал моей единственной ценностью. Он был подарком отца матери в день их свадьбы. Мать же отдала его мне незадолго до своей смерти, и я носила его, не снимая, с самого детства, сначала на цепочке, потом на пальце.
Помолчав, продолжила. Было видно, что ей нужно выговориться.
– У меня родился сын. Роды были внезапные, продолжительные и мучительные, я потеряла много крови и чуть не умерла. Рожала сама, никто не хотел прикасаться к нечистой. Теперь-то я знаю, почему я не отдала концы.
Хотя у меня никогда язык не поворачивался сказать своему ребенку: «Лучше б ты не рождался», но думала я подобным образом не один раз. Я не решилась взять на свою душу грех убить его, когда он был внутри меня, хотя могла, и потом не хватило духу подкинуть кому-то, как это повсеместно практиковалось бедным людом.
Этот ребенок с самого рождения причинял мне множество даже не хлопот, а проблем. Он сам был сплошной проблемой: без конца чем-то болеющий, всегда ноющий, всегда голодный. Он был невыносимо капризным, истеричным и трусливым. А позже стал несносным лгуном, отличался от сверстников болезненными вороватостью и азартностью, безудержной склонностью к спиртным напиткам и сквернословию. Его рот открывался, только если он собирался сказать какую-то гадость. И он его не закрывал даже когда спал.
Все, что зарабатывалось мной, с самого детства уносилось, менялось, продавалось, проигрывалось и пропивалось. Я терпеливо и смиренно сносила все его выкрутасы, отец научил меня принимать судьбу безоговорочно. Мы все это время жили попрошайничеством и гаданием, впроголодь, в грязи, в совершенно несносных условиях. Спали в развалинах старых городских домов, полных клопов и крыс. Нас преследовали, за нами следили, держали в постоянном страхе быть запертыми в каталажку, быть оскорбленными и избитыми, не говорю уже про голод и холод.
Я подурнела и постарела от выпавших на мою долю злосчастий. И ко всему прочему, он начал зариться на мое кольцо с янтарем. То ли его науськивали собутыльники, то ли это была его заветная мечта иметь это кольцо, ему всегда нравился муравей внутри камня. Он часто и подолгу засматривался на него, пытался снять и примерить на себя. Но перстень я никогда не снимала. И ни продавать, ни отдавать его кому бы то ни было не собиралась. Я так устала от его выходок, истерик, вони, перегара, злословия, что начала было подумывать о том, чтобы, наконец-то, расстаться с ним. Ему уже исполнилось 14 лет, по цыганским меркам достаточно взрослый человек для самостоятельного существования. Иногда среди нашего брата в этом возрасте даже женятся. Он был уже законченным пропойцей, с болезненной манией к воровству, готовым на все, чтобы получить вожделенное пойло.
Однажды я проснулась оттого, что задыхалась во сне. Открыв глаза, я увидела сына, склонившегося надо мной, пьяного, как всегда, шатающегося, от него невыносимо разило перегаром и вонью давно немытого тела. Одной рукой он зажал мне рот, а другой с топором, замахивался для удара. Я не успела испугаться, только взметнулась мысль: «Матерь божья!» И вдруг я услышала звук, похожий на то, как будто огромная птица встряхивала крыльями, я даже почувствовала прохладу от этого мановения. Рука с топором не опустилась, а так и застыла в воздухе, хотя было видно, что он силится доделать задуманное. От недоумения и усилий он начал трезветь. Я видела по его тупым, налитым кровью глазам, что он уже даже осознает ситуацию. «Что у трезвого на уме, то у пьяного на…» Хотелось бы сказать «на языке», но когда видишь, как тебя пытаются убить и при этом действуют не языком, то…
Я не боялась, я чувствовала, что под защитой. Чьей? Я не знала, чьей, но, глядя на замахнувшуюся руку, я вдруг начала различать еще одну, удерживающую удар. Она выходила из моей груди, но боли я не чувствовала, и она была точно не моей. Это была мощная мужская рука по сравнению с худой ручонкой хлипкого болезненного подростка. Сын даже убрал ладонь с моего рта и силился опустить топор двумя руками, удивленно и уже со страхом глядя, то на меня, то на свое орудие так желаемого убийства. Мне даже стало интересно, чем дело закончится. Я лежала и смотрела на него снизу вверх, на все его неловкие угловатые движения, всегда вызывающие у меня чувство отвращения, и даже начала потешаться.
– Ты так хочешь мое кольцо, что ради него готов убить меня?
– Хочу! – Последовала судорожная попытка опустить топор, но он не поддавался, застыв в воздухе.
– На! – Я медленно вытянула руку к его лицу и сложила пальцы в фигу. Белая рука на рукояти топора повторила мое резкое движение вперед, и сын получил в лоб тупым концом топорища. Он без сознания, с окровавленным лицом, отлетел в сторону. Из рассеченного лба хлестала кровь. Я поняла. То, что я начинаю видеть – мой хранитель. Он – это я, я – это он. Я мгновенно осознала, что со мной ничего не случится, пока он со мной, и приняла это так быстро, как будто так было всегда. Мне ничего не нужно было делать, только отпустить выродка-сына восвояси, вычеркнуть его из своей жизни. И все. Не знаю, что меня дернуло за язык, но я спокойно сказала, поднимаясь с убогого лежбища и одергивая скомканную одежду: