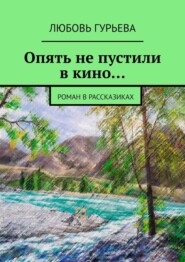скачать книгу бесплатно
Опять не пустили в кино… Роман в рассказиках
Любовь Гурьева
Эта книжица – мой первенец.Она родилась из рассказов, опубликованных в моём блоге в «Живом журнале», который я начала вести через несколько лет после выхода на пенсию.Общаясь с виртуальными друзьями, я просто вспоминала своё детство.Заканчивается книжка многоточием – возможно, будет продолжение…
Опять не пустили в кино…
Роман в рассказиках
Любовь Гурьева
Иллюстратор Алексей Даманский
© Любовь Гурьева, 2024
© Алексей Даманский, иллюстрации, 2024
ISBN 978-5-0062-4716-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть 1.
А помнишь, конфету не дали…
Сияют манящие дали…
Там детство… Прекрасно оно…
А помнишь, конфету не дали,
Опять не пустили в кино.
Валентин Берестов
Бутино
Родина моя – деревня Бутино в Кировской области.
Что означает название деревни, выяснить мне не удалось. Прочитала, однако, как и когда она появилась: когда-то в этом месте, близ реки Камы, проходил Сибирский тракт, и, когда в 1669 году было обнаружено богатое месторождение полезной глины, тут построили деревянную церковь Спаса Преображения, а рядом с ней образовалось большое село. Здесь изначально жили мои предки по фамилии Печеницыны, как мой дедушка Павел Николаевич, и Нечаевы – это девичья фамилия моей бабушки Анфисы Егоровны.
И я здесь родилась. Хотя… где конкретно я появилась на свет, и что на этом свете я увидела впервые – белые стены роддома в ближайшем селе или бревенчатые стены бабушкиной деревенской избы, мне никто не рассказывал, и спросить уже не у кого…
А через два года после моего рождения семья перебралась в посёлок Чус, на правый берег Камы.
Помню, помню: это было зимой, я ехала в карете. Крупные, с тетрадный лист, снежинки медленно кружились на фоне серого неба, залетали в приоткрытое окошко кареты, мягко падали и таяли на моём лице…
Когда я несколько лет спустя рассказала об этом бабушке, она слегка оторопела: какая такая карета?! Потом долго смеялась над моими «воспоминаниями»:
– Гляди-ко, цё удумала!
И открыла мне «страшную тайну»: везли меня в простых крестьянских санях-розвальнях, я была укутана в бабушкину шаль, угол которой был откинут, дабы дитятку было чем дышать.
Чус
Посёлок, в котором я прожила следующие 8 лет, называется Чус – по имени речки, впадающей в этом месте в реку Каму.
Уже позже я узнала, что мы с посёлком почти ровесники: он был образован на месте временного сплавного участка Кайского леспромхоза и официально зарегистрирован как посёлок в декабре 1955 года.
Там появились первые щитковые дома, баня, клуб, столовая, пекарня. Одновременно строились производственные объекты: депо для ремонта подвижного состава узкоколейной железной дороги, гараж, пилорама и электростанция.
Вот родители и махнули туда из деревни – в леспромхозе была работа.
Моя семья
Когда я пытаюсь вспомнить своё раннее детство, то кажется, что это была не моя жизнь, а какой-то другой девчонки: отдельные эпизоды очень явственно встают перед глазами, как картинки в кино, другие возникают где-то в глубине сознания расплывчатыми мыслями, и многое остаётся как бы «за кадром».
В посёлке отец устроился машинистом паровоза на узкоколейке.
Мама, не имевшая никакой специальности, работала на лесозаготовках, а одно время – в столовой, о чём я сужу по фотографиям, потому что сама не помню.
После меня уже на Чусу родилась сестра Валя, потом Люда, брат Саша. Мы все были дома под присмотром бабушки. Я даже не знаю, был ли в посёлке детский сад, хотя – как не быть, думаю?!
Бабушка – самый светлый человек в моём детстве. Она была нашей кормилицей, защитницей, воспитательницей, а мне ещё и подружкой. Отец мой так и звал нас язвительно: «подружки».
Бабушка нянчилась со всеми своими внуками, ухаживала за скотиной, работала на огороде, в одиночку ходила летом и осенью в лес «по грибы да по ягоды». Грибы сушила и солила, мочила клюкву и бруснику, готовила незамысловатую крестьянскую еду. И к праздникам пекла пироги.
Где и как мы жили
Жили мы в щитовом домике на четыре семьи, в каждой квартире было по две комнаты с печкой между ними. Комната, в которую выходила печная плита, была одновременно кухней, столовой и спальней для бабушки и нас, детей. Правда, в последние годы мы жили в двух квартирах, в стене между ними отец прорубил дверь. Таким образом, у нас было четыре комнаты с крылечками в противоположных торцах.
Жили мы бедненько. Из мебели были только металлическая кровать для родителей, деревянная – для бабушки и детей (кажется, одна на всех!), столы, табуретки и лавки вдоль окон. Да, ещё сундук был. Бабушкин, привезённый из деревни. Верхнюю одёжку вешали на гвоздики, прибитые к дверям.
На подоконниках в жестяных консервных банках стояли комнатные цветы, которые разводила мама: «мокрый Ванька», крапивка, фикус, горький перец, который я как-то лизнула и долго бегала потом по дому с высунутым языком.
Мама рукодельничала: вышивала и вязала крючком подзоры – кружевные оборки по краям занавесок и простыней. Припоминаю, что и банки под цветами тоже были украшены вязаными «юбочками».
Поблизости от дома стоял хлев, почему-то я его плохо помню. Знаю только, что у нас всегда была корова. Поскольку я, вспоминая о ней, называю её то Милкой, то Малюткой, то могу предположить, что коровы было две. Не сразу, конечно, а поочерёдно.
А я, знаете, что вспомнила? Ни разу не слышала от моей бабушки-крестьянки слова «корова» – всегда только «коровушка», с уважением. А потому что – кормилица же!
Держали также кур и свиней – на мясо, естественно. И, спасибо отцу и бабушке, это они занимались скотиной и резали её на мясо, – я ни разу не видела этого процесса. Хотя почему-то с детства не ем куриное мясо – может, всё-таки что-то было с этим связано…
Рассказ бабушки
Му-у-у-у-у-у!
Услышав тревожный голос Малютки, бабушка забеспокоилась: что-то стряслось! Малютка – корова умная, не станет она просто так громко мычать. Да и Любашки давно не видно, а только что ведь топотала тут, между грядок.
Бабушка, с трудом разогнув затёкшую спину – с утра окучивала картошку, побежала за угол дома.
Картинка, которую увидела бабушка, была из раздела «и смех и грех»: прямо перед ней стоял телок и, ухватив толстыми губами двухлетнюю Любашку за загривок, размахивал ею из стороны в сторону. Малютка, видимо, пыталась образумить сынка, грозно мыча на него, но неслух продолжал забавляться живой «игрушкой».
Самое интересное, смеялась бабушка, Любашка не плакала, а с любопытством смотрела на качающийся перед ней мир.
Видимо, ей нравились такие «качели»…
Голландка
Отец у меня был вообще-то рукастый, много чего мог сам сделать. Сложенная отцом печь-голландка была, мне кажется, гордостью всей его жизни. Где, откуда он взял образец? Тогда даже телевизоров ни у кого в посёлке не было. Но он её сложил, и это слово «голландка» мне с тех пор запомнилось.
Чем же мы отапливали комнаты раньше, спросите вы. Печкой, конечно, только та печка была низкая, как нынешняя электрическая плита. Кроме обогрева, на ней и еду готовили.
Голландка тоже несла на себе двойную задачу, но тепла от неё было больше и сохранялось оно дольше. Да и гордость опять же – голландская!
Прочитала тут, что настоящая голландская печь облицовывалась красивыми изразцами, да и сама такие видела не раз – в музеях.
Но у нас была примитивная, без изразцов, побелённая известью – не графья, чай…
А из нашего окна…
Перед окнами у нас был огород. Довольно большой, как мне сейчас представляется. В открытом грунте росли морковь, свёкла, горошек в стручках – сладкий такой. Огурцы и помидоры выращивали в парнике, который отец сооружал из старых оконных рам, но помидоры за короткое лето всё равно не успевали вызревать, их срывали зелёными и прятали в валенках под кроватями, где они «доходили».
А дальше, левее, если смотреть из окон, – целое поле для картошки. И мне приходилось помогать окучивать и собирать картошку. Отец копнёт лопатой и вывалит рядом на землю кучу картофелин, больших и совсем крохотных, а мы с сестрицей эти картошинки отряхиваем от земли и бросаем в вёдра: крупную к крупным, мелкую к мелким. Ох и не любила я это занятие! Всё время старалась улизнуть, но редко удавалось…
За огородом была тропинка в уборную и дальше – в баню. В бане я помню только предбанник, где мы раздевались и складывали одёжку на лавки. Потом открывалась дверь в саму баню, откуда валил густыми клубами пар.
А за всем этим хозяйством тёмной плотной стеной стоял лес. На самом деле, как я понимаю, до леса ещё надо было довольно долго идти – по тропинкам через поляны и кочки. Но из окошка лес казался совсем рядом.
У меня нет ни одного фото нашего посёлка того времени, но когда я рассказываю о нём, то как будто бы вижу перед собой картину…
Камушка
Посёлок наш стоял на Каме – в том месте, где в неё впадала речка Чус.
Кама (Камушка, как называла её мама) казалась мне очень широкой, а Чус – страшно глубоким, я его до ужаса боялась и до сих пор с трепетом в душе вспоминаю тёмно-коричневый поток воды, стремительно вливавшийся в Камушку.
Тонули в Каме часто, потому что моста не было, на другой берег переправлялись в лодках.
Вот так однажды возвращались женщины из Лойно с покупками. Лодка перевернулась, и мама моей одноклассницы Томы Гущиной утонула, а наша соседка тётя Ира спаслась. Взрослые говорили между собой, что обе они были в одинаковых плащах, но Томина мама была подпоясана, а тёти Ирин плащ без пояса надулся и позволил ей дольше продержаться на плаву.
А потом утонул соседский Вовка. Самого Вовку я не помню, ему было всего 5 лет, я постарше была, но его рыдающие без удержу мать и бабушка до сих пор стоят у меня перед глазами. И с тех пор я с трудом выношу запах хвои и тройного одеколона: Вовку нашли в реке не сразу и, стараясь заглушить смрад, обильно поливали всё вокруг одеколоном.
Детство без шапки
От суровых вятских морозов мою головёнку оберегала бабушкина клетчатая шаль, а подружки форсили в шапках. И я о ней мечтала – о детской шапке из овчины с резинкой под подбородком.
И вот как-то приехала к нам в гости бабушкина племянница Люся и дала мне поносить свою шапку. Как же радостно бежала я по улице в этой светло-коричневой меховой шапке…
Только Люся была уже взрослой девушкой, и шапка у неё была без завязок. А на дворе была весна – хоть и солнечная, но холодная. И я простыла и заболела.
А сейчас я шапки не люблю…
Рябинка за стеклом
Зимы на Чусу были холодные, к их к приходу взрослые готовились загодя: в окна вставлялись вторые рамы, простенки заклеивались газетами, между рамами причудливой горкой укладывалась вата, а на неё клали что-нибудь яркое – ёлочные игрушки, мишуру, засушенные цветы…
Моя мама в художественном беспорядке раскидывала на вате яркие гроздья рябины. Наверное, с тех пор я рябину обожаю и тоже использую её при подготовке к зиме – на свой, городской, лад…
Дратва, вар и шило
Где папка брал смолу, я не знаю. Впрочем, какая проблема – добыть смолу, если ты живёшь на краю большого леса.
Не знаю, как и с чем он варил её на печке в старом котелке, зато как сейчас вижу натянутые через всю комнату нити, сложенные в несколько раз: один конец привязан к блестящей шишечке кровати, другой держит в руках отец. И не просто держит, а скручивает их между ладонями в надетых на руки холщовых рукавицах. В зубах – неизменная папироса.
Потом варом – той самой сваренной с чем-то смолой – начинает натирать эту скрученную нить. Так получается дратва – нитка, которой будут подшиты наши валенки.
По радио поёт Нина Русланова: «Валенки, да валенки – не подшиты, стареньки…». А у нас-то хоть старенькие, да подшитые будут!
Для подшивки ещё надо вырезать стельки из старых голенищ. Да, кажется, ещё не в один слой – чтобы крепче были. А потом дратвой пришить их накрепко к подошве, предварительно проделывая дырки шилом…
– Любка, ну-ка держи! – отец ставит передо мной серые валеночки с коричневой подошвой и горделиво поглядывает на всю семью…
Красота – страшная сила
Мне лет 5 или меньше, волосы у меня зачёсаны назад и заплетены в косицу. А старшая сестра моей подружки Тани ходит с чёлкой. Ох, до чего же красиво! И мне так хочется…
И вот, улучив момент, когда бабушка куда-то ушла, встала на табуретку перед зеркалом, вытянула из косы вперёд прядку волос и стала ладить себе чёлку. Раз ножницами стриганула – нет, ещё надо!
Стригла так понемножку, стригла – ой, как-то уже слишком коротко, бабушка увидит, ругаться будет. А состригу-ка я их совсем – ну, как будто их вообще не было…
Когда бабушка вернулась домой и увидела свою красавицу внучку, она хохотала до упаду. Родители, конечно, тоже сразу заметили. Мамка, небось, немного покричала, может, даже в угол поставила – любила она нас углами воспитывать, а отец хмыкнул только…
Из чего сделаны девчонки…
– Ты представляешь, – говорит мне сестра, – твоя любимая Настасья попросила подарить ей… косметику!
А Настасье в тот момент всего-навсего 3 годика было.
А впрочем, чему удивляться? Наверное, столько же было и Настиной бабке Вале (а мне, соответственно, на два года больше), когда мы красили себе ноготки цветными карандашами, а под пятки в чулки подставляли катушки от ниток и ходили «на каблуках».
Ну, про то, как я чёлку себе выстригала, я уже рассказывала. И лучшей моей игрушкой было в то время подаренное вышеупомянутой бабушкиной племянницей Люсей маленькое круглое зеркальце, на обратной стороне которого была фотография двух котят в одном ботинке…
Тётя Ира
– Вот, всегда бы так-то кушать! – эти слова, мечтательно произнесённые соседкой, относились к ломтю белого хлеба, на который был намазан тонкий слой маргарина, посыпанный сверху сахарным песком.
Почему я почти полвека помню эту фразу? И эту картинку: тёплым летним вечером мы с бабушкой сидим на деревянном крыльце, а на соседнем стоит тётя Ира и с наслаждением кусает свой немудрёный бутерброд…
Как-то в «Одноклассниках» нашла тёти Ириного сына и узнала, что мама его умерла много лет назад…