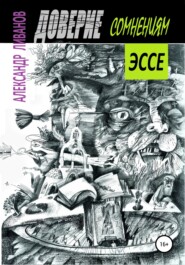
Полная версия:
Доверие сомнениям
Войне, народу на войне, не до дискуссий, не до споров – что важнее: патетика или лирика? Оказалось, что и та, и другая песня насущны. Солдат лишь – вынужденное, лишь временное состояние человека. Чтоб чувствовать себя частью самоотрешенного целого, нужно себя сперва осознать суверенной частью! То есть, человеческой индивидуальностью. «Мы» не обезличивает «я», а лишь является многократным его усилением. Все личное становится личностью: меняется фактор духовного. Глубоко заблуждаются те, которые полагают, что лирика может «размагнитить» бойца, явиться источником слабости! Наоборот, ее закал особый, она важный исток духовной силы и стойкости бойцовской. Лирика – вещь мужественная. Лирическая песня так же насущна для привала души, как строевая песня для марша! Да и живая душа солдатская – не вносит ли она хоть толику лиризма в любую строевую песню, не «аранжирует» ли она, в свой черед, лирическую песню до уровня ритма и лада строевой песни? Кому довелось быть солдатом, пусть не на войне, пусть даже в мирное время, тот согласится с нами. Об этом сказал и поэт Николай Старшинов:
О, как могуч и как красив мой голос,
Помноженный на сотню голосов!
Так было еще в давние времена солдатских походов, суровых сражений, самоотверженного армейского быта. И кто, например, может уверенно сказать, чего больше – мужественной патетики и строевой бодрости – или все же задушевного щемящего лиризма, пусть и прикрытого беспечной разудалостью, в такой, и ныне незабытой, такой незамысловатой, например, песне солдатской:
Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши жёны?
Наши жёны – ружья заряжёны,
Вот где наши жёны.
С детства запомнилась эта песня, бывало певал ее отец, солдат, вернувшийся с «германской» с деревянной ногой – «Австрияки проклятущие – отхватили снарядом в Галиции!». Бывало затянет эту песню для меня – или прямо по моей просьбе – а у самого слезы навертываются на глаза. Мне – пятилетнему мальцу – это было непонятно. Отец честил войну во все лопатки, «Николку-дуралея», который ее затеял – а самого до слез трогала солдатская песня. Мал, слишком мал был мой житейский, да и сердечный, опыт, чтоб суметь тогда разграничить эти данности – война – солдатский долг – солдатская песня!
И другую отцовскую песню помню (впрочем, не уверен, что именно точно ее помню, не досочинил ли что-то в ней, не «дописал» вместо стершегося в памяти!):
Горы-вершины, Карпатские долины,
Я вас снова вижу перед собой…
Это была уже совсем другая, с широкой, распевной печалью, песня – но опять влажнели отцовские глаза, он кажется стеснялся этого, отвертывался, долго молчал в задумчивости. Молчал и я… Мать приязненно ворчала – «Поешь что воешь… Вон на малого даже тоску нагнал…» «Много ты понимаешь, баба, в солдатской песне!». И дабы сохранить мир в хате, чтоб не вспылил ненароком отец, я торопливо брал его за руку. Успел я заметить, что так мне часто удавалось упредить родительскую перебранку…
«Новые времена – новые песни». Что-то не слыхать новых песен, или начисто вытеснили их – «ритмы»? Видать, молодежи нужно открыть для себя старые песни. Это и будет – новые песни! Подумала б про это фирма «Мелодия»! Ведь не утолить живую душу одними ритмами»…
Фирма «Мелодия» – а-у!
Интимность
Видели вы, как работает косарь? Помахал, помахал косой, остановился, поднял косу флажком, поставил между ног, воткнув в землю окосье, стальное полотно – носком «в поле». Вытащил из-за голенища брусок – раз-раз – бруском по обе стороны звенящей стали, поводил, «погладил» потягом от себя: направил жало! И снова брусок на место, за голенище сапога, и снова вжикает и стелется срезанная трава…
И у меня на столе, рядом с чернильницей, лежат несколько брусков (один – «алмазный», дорогой!) и лупа. Подобно косарю – время от времени прерываю письмо, чтоб направить жало пера. Дело похитрей косы, похитрей даже бритвы: сложнее!..
Во-первых, жало не простое, из двух «лепестков». Нужно, чтоб они были на одной высоте, лежали строго в одной плоскости. Во-вторых, очень непростой конфигурации жало здесь. И нужно, чтоб у этого жала был еще и «отрицательный угол атаки», некий овал, если в торец смотреть на острие и увидеть его многократно увеличенным. Перо не должно зарываться, врезаться в бумагу, особенно при самых каверзных движениях по очертанию буквы справа – вверх-налево… И т.д., и т.д.
Может показаться, что все тут незамысловатое, но это заблуждение. Три среды – бумага, чернила, перо, каждая из которых и не просто, и со своими сложностями и изменениями!.. Вспомним для примера как долго меняется, и поныне продолжает меняться, «нос» самолета, где всего-то две постоянные среды, воздух и металл, как меняется и конфигурация, и угол атаки «носа» (вплоть до отрицательного!). Поиски и поиски! А формы и углы заточки резцов?..
Без навыка перо не заточить, только привести в негодность. К тому же – надо знать углы наклона ручки и почерка, они индивидуальны весьма!.. Рука пишущего – очень прихотливый «суппорт»!
Нигде не читал, чтоб писатели точили свои перья. А ведь как здесь изобретательны все мастера, в том числе и художники, в «воспитании» своего инструмента!.. И лишь одни писатели (или писательский труд и в этом учит терпению?) тут почему-то «не утруждаются». Все нарекания обычно в адрес бумаги, которая чаще всего ни в чем не повинна!
Заточка пера – мое, видать, грустное изобретение. Из измотанности нервной (ранение в голову, «энцефалопатический синдром» и прочая внушительная медицина…). Изрядный уже накоплен мною опыт! Жаль, если весь пропадает втуне. И разве это не – писательский опыт?.. Любое перо копеечное, полтинишная авторучка школьная – после моего «воспитания» посредством брусков пишет лучше самого дорогого «паркера»! К слову сказать, лежат они у меня, и «паркер», и две «китайские». Лежат и «шарики», самые лучшие – французские «бик» и «рейнолдс». И этими писать не могу, – виляют, все юзы да юзы, своевольничают, почерк как чужой, главное «нажимать надо» – устаешь… А сам механизм письма не должен ни утомлять, ни отвлекать! Скажем, микронный заусенец способен отравить настроение, извести пишущего, сделать написанное хуже, чем могло быть, а то и вообще помешать мысли состояться в слове… И без того эмоциональные, душевные, психические – нервные – напряжения в писательском труде бывают выше всякой меры!..
Точить или не точить перо, пишущие принадлежности свои писатель должен знать, равно как весь механизм письма! Должен чувствовать, как музыкант свой инструмент. Перо – это часть его рабочей формы. Диссертации и брошюры («организация умственного труда» и т.п.) тут мало чем помогают. И не будем искать разгадку – почему писатели Запада все пользуются машинописью, а мы все еще привержены к перу (может быть, слава богу). Выходит, надо знать и чувствовать именно перо, свой инструмент!..
Довелось мне видеть, как художник, добрый мой знакомый, купив дорогую – «французский колонок!» – кисть долго «обращал ее в православную веру», прежде, чем пустить в дело. Он тщательно «брил» ее, подрезал «усы», чуть ли ни каждую ворсинку «дрессировал» отдельно, укладывал кисть спиралью, окунал в холодную и горячую воду, ждал, чтоб выходила собранной, как шильце, и острой на конце, затем кисть прошла «горячую завивку» в скипидаре, была обвязана ниткой, «запелената» – и на сутки оставлена «дойти до ума»!..
Мне вспомнилось, как женщины, подвергаясь мукам косметической хирургии или парикмахерской, говорят: «Чтоб быть красивой, надо пострадать!». Я уже не мучился самоукоризной, что трачу время на точку пера, в то время, как другие этого не делают. Художник, будучи человеком веселым и во всем привыкший искать возможность для шутки, и здесь не упустил эту возможность: «Чтоб в написанном был полет, писатель должен ухаживать за своими перьями, как птица за своими!». А серьезно добавил, что художник, скажем, это «вполовину дарование, а вполовину изобретение приемов». Мол, общеизвестный ныне фломастер, без которого и школьник не обходится, не просто изобретение, за которое дают диплом, а один из изобретательских приемов художника Пикассо!.. Впрочем, всякий заинтересованный труд доходит до изобретений!
Да, я уже не мучился самоукоризной за отвлечения от писательства в сторону такой прозаичной и будничной точки перьев. Мне даже стало грезиться – мне доверено точить перья Толстому и Достоевскому, Блоку и Цветаевой, Сент-Экзюпери и Пришвину – многим любимым! Являюсь раз в неделю (вроде точильщика ножей к столовой). Я писателям нужен, моя работа им помогает! Я делаю ее бесплатно – и я вполне счастлив!..
А сам? Упаси бог – какой я перед ними писатель! Я точильщик их перьев – разве этого мало для моего счастья? А вы кто? Ах, писатель М? Поэт К.? Прошу подождать, мне еще наточить перья Бунину, Паустовскому, Юрию Олеше!.. Вот у меня в блокнотике записано! Придется подождать – сами понимаете!
Они понимают, они скромно кивают, отходят на шаг-другой.
В литинститутской бытности знавал я одного студента, писавшего много прозы. Он еще тогда не успел напечатать ни одно из своих созданий, но уже был отмечен этой «каинской печатью»… «перьестрадательства». Мы тогда это не понимали, считали блажью, смеялись. А он, бедняга, воровал двухкопеечные вставочки на почте, заверяя нас, что именно эти, уворованные на почте, бывают чаще всего «на что-то годны»! И даже пытался нам что-то объяснить в таком парадоксе. Мол, там, пишут люди с разными почерками, разными наклонами, разными нажимами – перо таким образом получается «универсально расписанное»! Второе слово, когда обиходное, ныне забыто…
Может, не стали бы мы смеяться над горемыкой, знай мы тогда о том, как, например, мучился с перьями Бунин!
«Бунин говорил, что вечно страдал из-за своего почерка – менял перья, писать ему бывает очень трудно: перо не идет…».
«У И. А. (Ивана Алексеевича – Прим. А.Л.) есть одна особенность: страсть к перьям. Всю свою жизнь он мучится с неподходящими перьями, мучится своим почерком, хотя есть периоды, когда пишет великолепными клинообразными письменами. Для того чтобы было легко писать, ему необходимо какое-то особенно легкое, удобное перо, и вот, достаточно ему войти в писчебумажный магазин, как он начинает тянуться к коробочке с золотыми перьями и ватермановскими ручками, пробовать их и почти всякий раз покупает ручку за 70-80 франков, которую, испробовав дома, находит негодной. Накопилось этих перьев и ручек у нас немало, он чрезвычайно ревниво относится к ним, не дает никому до них дотрагиваться, а время от времени обходит все комнаты и берет со столов то одну, то другую чью-нибудь ручку. У него было простое перо, купленное в Грасе, которым он писал 7 лет, написал «Митину любовь» и «Дело корнета Елагина», но теперь он уронил его и перо разбилось».
Хорошо, что Галина Кузнецова, будучи сама писательница, не сочла это все «блажью», не опустила как «мелочь» из писательского быта Бунина. Семь лет писательской работы с одним-единственным – простым – пером, а затем годы, в течение которых все дорогие перья, золотые, ватермановские ручки – все сплошь негодное!.. Вот как бывают непостижимо сложны «интимные отношения» мастера и его инструмента!..
У истоков романа
По утверждению Энгельса, как известно, труд создал человека. Истину эту никто не берется оспорить. Но, думается, что она имеет в виду не только «хомо сапиенс», но и человека общественного. Иными словами, будучи философом, Энгельс говорил о человеке историческом. Процесс этот нескончаем, именно в обществе, после природы.
Поэзия же, с древности до наших дней, утверждает, что человек, во всяком случае, как существо духовное, создается любовью.
Разумеется, и на этот раз, нет противоречия между философией и поэзией. В раздумьях о человеке каждая здесь была занята «своим делом», так сказать, не выходя из рамок «разделения труда». Любовь, сам человек, не существовали бы без человеческого труда, труд не много стоил бы, если не был, с одной стороны, прямо побуждаем любовью, с другой – не проникся бы, не являлся бы ее чувственно-активным продолжением – ее осуществлением. Недаром в былинах и сказаниях наших чаще всего труд-любовь-подвиг богатырский составляют некое триединство!
Если когда-то первейшей доблестью исторического древнего мира Греции и Рима была воинская, в ней усматривалась и образцовая гражданственность (и в том, и в другом случае тут была больше «конструктивная мораль» общества, чем подлинная общечеловеческая мораль; войны являлись чаще завоевательными, в них участвовали бесправные солдаты-рабы – т.е. войны были по существу своему: аморальными…), то в социалистическом обществе – труд есть нравственная основа жизни. Он же, труд, стал нравственной потребностью человека, его духовным чувством жизни. Он же, труд, первейшая гражданская доблесть человека.
Но почему литература и искусство так богато умели всегда показать значение красоты и любви, и до сих пор не научились этому по поводу труда? Не потому ли, что в первом случае у каждого поэта, писателя, художника здесь имелся личный опыт, в то время, как для второго случая требовалось бы наблюдение-изучение-отражение? Да и такого, наблюдения-изучения-отражения, все равно каждый раз оказывалось недостаточно. Чтоб труд стал благодатным объектом художественного отражения, стал явлением художественной литературы и искусства, мало, видать, и самой непосредственной трудовой причастности. Требуется единственно: труд-любовь! Не изучение жизни, а сама трудовая жизнь как судьба. Только в таком случае, видать, создается нужный здесь длительный, органичный – на уровне души – контакт «художника и материала».
Лишь в редких случаях мы видим этот контакт даже в нашей классике. И недаром непревзойденную поэзию крестьянского труда находим мы, например, у Кольцова, у Есенина. Несмотря на то, что писали о нем многие. Но не только другая глубина образности здесь, другая страсть и накал ее – здесь открывается сама народная душа, ее тайны, ее истина. И в самом заветном здесь предстала и душа поэта, жизнь-судьба в труде большой крестьянской родни: народа!
Толстой, видимо, больше все же из инстинкта художника, чем из гуманно-рассудочных соображений, чем из заданности моралиста и проповедника «опрощения» впрягал лошадку в соху-андревну и пахал клин какой-нибудь очередной бедной крестьянки-вдовы. Или брал в руки косу, шел в луга и становился в ряд крестьян-косцов. Недаром, потом Ленин говорил Горькому, что до Толстого «подлинного мужика в литературе не было»! Ведь в этом не только похвала Толстому – здесь и косвенная укоризна мировой литературе, умудрившейся «обойти» и «не заметить» главный, кормящий труд на Земле, главного и самого многочисленного кормильца! Поистине, удивления достойно насколько литература, дело «людей просвещенных», была далека от крестьянства, непросвещенного в массе своей, не читавшего книг.
А ведь, если бы все заключалось для Толстого в «изучении темы труда», в «личной трудовой причастности», ему, жившему всегда среди крестьян, их труда и повседневных забот, – ему бы как писателю и познаний о крестьянском труде всегда достало бы с лихвой. Толстой-художник хотел здесь «дойти до сути», т.е. обрести не просто «личный опыт», а – «личный душевный опыт»! И это ему удавалось все больше и больше. Недаром «Воскресенье» – самый обличительный по отношению к самодержавию роман «позднего Толстого», в котором показаны не только «падшие» Нехлюдов и Катюша, но и люди трудовой судьбы, влияние труда на миропонимание этих людей, а крестьяне названы: «настоящим большим светом»! Тема трудового крестьянства нашла свое художественное воплощение, пожалуй, больше в «Анне Каренине», но там Толстой еще во многом на позициях дворянско-помещичьего класса, еще во многом исполнен надежд на гармоничные отношения между помещиком и мужиками. Но и там труд – вспомним знаменитую картину сенокоса – показан не просто поэтично, а и как огромное нравственно-возвышающее начало для жизни человека! А еще совсем молодой Толстой как-то записал в дневнике: «работать умно, полезно, с целью добра – превосходно, но даже просто работать вздор, палочку строгать, что-нибудь, – но в этом первое условие нравственной, хорошей жизни и поэтому счастия».
Тема труда и человека труда в нашем обществе не случайно главные в литературе. Современный герой – прежде всего труженик. Труд – поистине его судьба, потому что он же, труд, его нравственность, эстетическое и духовное отношение к жизни, средство самоутверждения в жизни, средство самоутверждения и осознания своего места среди людей. В общественно-полезном труде он сознает и исток основных ценностей жизни… Все это – «изучением темы» – писателю (художнику) художнически не поднять если только сам писатель (художник) плоть от плоти не связан таким образом с темой. Пусть не всей жизнью, пусть хотя бы частью ее, детством своим. Разумеется, – заданность здесь вряд ли возможна, вряд ли она станет плодотворной!
Вот почему, думается, так часто терпят неудачу в этой – главной теме – даже добросовестные писатели. В лучшем случае, именно из добросовестности, они так подробно здесь все изучили, записали, познали, что роман их или повесть то и дело становится похожим на отчет … технолога, на производственно-экономический очерк, скажем, для подвала в «Социалистической индустрии». О худшем же случае, об экскурсионно-туристском производственном очерке, и говорить не стоит…
Но что здесь больше всего удручает – душа человека труда не показана в подлинной наполненности ее «труда-любови»! Даже тому, добросовестному автору, это не дано, как бы он – заводской неофит – не был искренне увлечен, даже «захвачен» производственными «картинами» и «панорамами», цеховыми «пейзажами» и «интерьерами». Человек все же здесь каждый раз оказывается душевно обедненным, а то и вовсе застывшим безликим придатком к сногсшибательной технологии и пафосу «планоперевыполнения»…
«Одна из главных причин ошибок нашего богатого класса состоит в том, что мы не скоро привыкаем к мысли, что мы большие. Вся наша жизнь до 25 иногда и больше лет противоречит этой мысли; совершенно наоборот того, что бывает в крестьянском классе, где 15 лет малый женится и становится полным хозяином. Меня часто поражала эта самостоятельность и уверенность крестьянского парня, который, будь он умнейшим мальчиком, в нашем классе был бы нулем».
Это записано двадцатипятилетним Толстым! Разумеется, он еще весь «на позициях своего богатого класса». Таких, и подобных им, мыслей у Толстого встретим и потом немало. В самой свободе объективизма этой мысли уже есть зерно будущего ухода Толстого на позиции крестьянского (трудового) класса. Еще немало ошибок, и причин их, ему надлежало открыть в своем дворянском классе, чтобы наконец осознать его неправомерность как правящей силы общества. Но здесь нам интересно – «меня часто поражала эта самостоятельность и уверенность крестьянского парня». То есть, речь о ранней зрелости и умудренности крестьянского парня – при затянувшейся инфантильности дворянского молодого человека! Надо ли говорить, что причина этой ранней зрелости – трудовая школа крестьянствования? Это само собой разумеется. Толстой здесь поэтому не указывает прямо на трудовое воспитание, единственно способное дать человеку «самостоятельность и уверенность».
Но здесь навещает нас и другая мысль – в самом духовном созревании Толстого, в его небывалом мировоззренческом повороте, не слишком ли мы переоцениваем чисто умозрительное, мыслительное начало, но недооцениваем непосредственный опыт Толстого-труженика, Толстого, любившего крестьянский труд, все больше сознававшего его духосозидательную, нравственную силу? Не в этом ли и своеобразное воскресение самого Толстого, который – в лице Нехлюдова – заканчивает вторую часть «Воскресения» (после наблюдения крестьян в вагоне поезда) следующими мыслями:
«Да, совсем новый, другой, новый мир», – думал Нехлюдов, глядя на эти сухие, мускулистые члены, грубые домодельные одежды и загорелые, ласковые и измученные лица и чувствуя себя со всех сторон окруженным совсем новыми людьми с их серьезными интересами, радостями и состраданиями настоящей трудовой и человеческой жизни.
«Вот он, le vrai grand monde (настоящий большой свет – Прим. А.Л.)», – думал Нехлюдов, вспоминая фразу, сказанную князем Корчагиным, и весь этот праздный, роскошный мир Корчагиных с их ничтожными, жалкими интересами. И он испытывал чувство радости путешественника, открывшего новый, неизвестный и прекрасный мир».
Нехлюдов не был сам крестьянским тружеником, но, к счастью, он знал труд, он был художником, пусть несостоявшимся художником. Но и такой художник дает Толстому писательское право «подарить» Нехлюдову, в котором от самого Толстого куда как больше, чем в Левине – что почему-то литературоведами до сих пор «не открылись»! столь важные постижения: «новый, неизвестный мир», подарить «чувство радости» от этого открытия!
По существу, этот «новый мир», мир труда, всем своим духовно-этическим богатством еще и поныне не открыт для многих людей, для писателей и художников! Видно, и впрямь «образование», умозрительные умствования и популярные брошюры здесь мало помогают. Нужен лично пройденный путь: «от страдания к радости». К слову сказать, – «страдание» в первозданном смысле и означало труд одоления! Недаром от него – и «страда» (хлеб – средство жизни!), и – «радость», которая ничего – в народном понимании – не стоит, если только не приходит после страды, труда одоления!
И другое высказывание – о труде и человеке труда – писателя и мыслителя, который в труде, в его верной общественно-разумной организации, видел не только духосозидающее начало, но и решение всех общечеловеческих, социальных проблем. Мы имеем ввиду Чернышевского, одно из высказываний его: «Благодаря своей здоровой натуре, своей суровой житейской опытности, западноевропейский простолюдин в сущности понимает вещи несравненно лучше, вернее и глубже, чем люди более счастливых классов».
Что и говорить, недаром эти же, рано созревающие и умудренные трудом сыны крестьянские, о которых говорил Толстой, эти же «простолюдины» с их «суровой житейской опытностью… понимающие вещи несравненно лучше, вернее и глубже» (нежели люди чуждые труду), первые поняли освободительные, справедливые идеи революции, первые почувствовали верные пути к ее свершению!
Итак, словами Толстого, «новый, неизвестный и прекрасный мир» труда! Веками было так – кто жил в этом мире, не писал книг – и наоборот. Приводя мысли Ламартина, Толстой, когда-то в юности своей, писал: «Ламартин говорит, что писатели упускают из виду литературу народную… пишут для того круга, в котором живут». Толстой тогда не видел средства одоления этого разрыва между литературой и трудовым народом. Он писал: «Пускай идет вперед высший круг, и народ не отстанет; он не сольется с высшим кругом, но он тоже продвинется». И там же, в дневниках своих университетских лет «Что же доступного для народа может выпеться из души сочинителей, большей частью стоящих на высшей точке развития, народ не поймет. Ежели даже сочинитель будет стараться сойти на ступень народную, народ не так поймет».
Что и говорить, все опасения Толстого были не лишены основания для его времени резкого классового расслоения народа, граней, куда более крутых и непроходимых, чем просто – образование и неграмотность…
И в том, что и в наше время, когда устранены эти «непроходимые грани», еще нет литературы, достойной «нового, неизвестного и прекрасного» мира труда повинна, видать, не одна лишь инерция из прошлых литературных традиций.
К счастью, в литературу все больше приходят сами люди труда, приходят, чтоб поведать о своем труде, «о времени и о себе». Приходят «низом шахт и вил». Тема труда на земле или на заводе для них родная, она для них самих, для их детства, для их родителей ей была, есть и пребудет: «И жизнь, и слезы, и любовь». И тогда, из литературно-эстетного снобизма, из равнодушия или из простого невежества, сказать о повести или романе такого писателя – «производственный роман», или «производственная повесть» – означает не только ничего не сказать по существу, но и заронить в читателе такое более чем «неточной информацией» неверное представление о конкретном произведении, соотнося его с тем рядом отметочно-дежурных и малохудожественных, а то и вовсе нехудожественных повестей и романов, которыми издатели тщетно пытаются заполнить свою плановую рубрику: «тема труда»…
Но все эти мысли пришли ко мне значительно позднее. Расскажу – с чего началось все, почему я здесь стал писать об этом, что толкнуло к нему…
Я разбирал письма недавно умершего критика и литературоведа Алексея Ивановича Кондратовича. Мне не трудно было перечесть снова эти письма – их было немного. Видать, никогда не перестанет удивлять тому, что написанное, или напечатанное типографски, слово, когда-то уже читанное, обретает для нас новый, даже неожиданный смысл! Нет, не прежняя невнимательность – тут действует, видать, наш новый, наращенный, так сказать, жизненный опыт…

