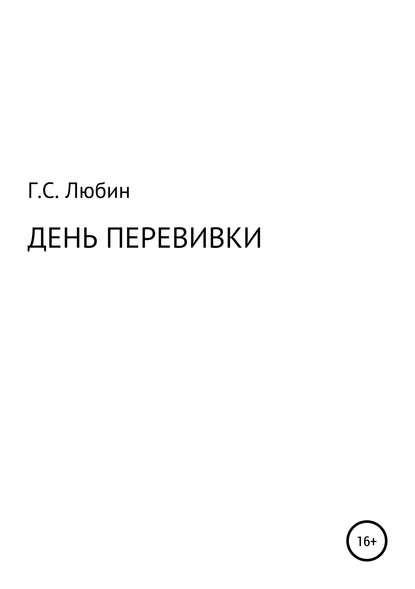 Полная версия
Полная версияДень перевивки

Памяти Фазиля Искандера посвящается
1
Мышонок был последыш. Старуха-мышь отчаянным усилием увядающей плоти выдавила его, наконец, из измученного родами чрева и затихла: то ли обессилела, то ли умерла.
К положенному сроку он не дотянул до весовой нормы – наверно, сломалось что-то в организме, – и его отсадили к нестандарту. Чтобы мыши-переростки не поели недорослей, их держали в разных клетках. Впрочем, судьба тех и других была одинаковой: раз в месяц их отдавали в зоопарк на съедение питону.
Разумеется, бесплатно.
2
Утром виварий, по обыкновению, открывала толстуха Ольга. Облачившись в толстый синий халат и сунув отекшие ноги в растоптанные шлепанцы, она привычно принималась за уборку.
Первыми чистились мышиные комнаты. Ольга снимала клетку за клеткой со стеллажей и, ловко подхватывая зверьков за хвостики, перекидывала их в большой пластмассовый таз. Пропахшие мочой, грязные с ночи клетки она складывала возле ржавой раковины.
Разбуженные включенным светом и Ольгиной возней, мыши из дальних от мойки стеллажей быстро просыпались, блаженно потягивались и принимались за утренний туалет, энергично вычесываясь и потирая розоватыми лапками остроконечные мордашки. Ольгино появление означало, что день будет как всегда, а значит – не хуже, чем вчера, и это вселяло уверенность и оптимизм.
Строго говоря, Ольга не была штатной уборщицей. Много лет назад после университета ее – краснодипломницу – распределили в фармлабораторию академического института. В ту пору она была молода и вполне ничего собой. Хотя Базедова болезнь уже вовсю хозяйничала в ее теле, признаки недуга угадывались только по заторможенности реакции на происходящее и недостатку живости ума. Однако именно это и раздражало сотрудников – все-таки НИИ! – и, стараясь отделаться, ее передавали «с рук на руки», пока не осталось ни одного человека, согласного взять ее в помощницы. Замаячило профнепригодностью и увольнением.
Готовясь к худшему, Ольга вошла в назначенный час к заведующему лабораторией. Удовлетворенно прихлебывая утренний – самый вкусный – кофе и смакуя каждый глоток дымящегося напитка, профессор как раз обсуждал с женой по телефону список приглашенных на предстоящий юбилей – свое 65-летие. Гостей ожидалось изрядно, и все немалого ранга. Профессор пребывал в зените профессионального признания, которое так импозантно, вопреки (а может, благодаря) возрасту, дополнялось преуспеянием телесно-физическим. Худощаво-подтянутый, не по-стариковски статный и широкоплечий, он все еще привлекал вороватые женские взоры.
По природе человек незлой, профессор ненавидел принимать решения, которые привносили огорчения в жизнь других людей. Не столько из-за любви к ближним и дальним, сколько из благоволения себе: каждое подобное решение грозило уродливо исказить зеркальную гладь внутреннего равновесия. “Leben und leben lassen” – «Живи и давай жить» – этот девиз, прочитанный им когда-то на гербе славного города Вена, вполне соответствовал его мироощущению.
Глядя на эту неопрятно-рыхлую молодую женщину с отекшим лицом и круглыми, на выкате, глазами, профессор поймал себя на мысли, что испытывает нечто вроде неудобства, неловкости за свое столь изобильное благополучие. Эта неловкость еще более усиливала раздражение по поводу очевидной необходимости предстоящего увольнения.
Вдруг спасительная мысль озарила его.
– Тут вот какое дело, дорогуша. Поскольку в лаборатории вам работы нет, я направляю вас в виварий. Оформим вас на должность… -
Он на мгновение задумался, вспомнив о ее высшем образовании.
– … инженера по разведению животных. Надеюсь, вы согласны.
– Да… – только и могла промолвить ошалевшая от столь удачного исхода Ольга.
Не вполне еще переварившая произошедшее, она, как сомнамбула, забрела в комнату для сотрудников и поведала им о беседе с профессором. Закончив рассказ, Ольга озадаченно промолвила:
– Вот только не знаю: инженер по разведению – это что делать-то надо?..
– Известно, что: мышей трахать! – сострил кто-то из присутствовавших, и вся комната грохнула от смеха.
Так решилась Ольгина судьба.
Животные, между тем, оказались созданиями незлобливыми и безответными. Разводить их нужды не было: как и люди, они и сами плодились отменно при условии сытости и доброго здравия. А вот что было действительно нужно – так это за ними прибираться. Постепенно Ольга привыкла и к синему халату, и к запаху сена и испражнений, и к нехитрым обязанностям уборщицы. О высшем образовании и университетском дипломе понемногу все забыли, и жизнь ее потекла из года в год, растворившись в размеренных буднях вивария.
Сегодня Ольга была в настроении – день зарплаты – и щедро бросила на решетку нестандарта два черствых батоновых ломтя вместо положенного одного. «Жри, заморыш», – ласково пробормотала толстуха. Мышонок встал на задние лапки и, сноровисто протащив батон сквозь металлические прутья, с аппетитом захрустел…
– Почему вчера не вынесла мусор? – высокий, до фальцета, голос разорвал привычную тишину, заставив Мышонка на мгновение замереть и перестать жевать. Голос принадлежал Зинаиде – заввиварием и Ольгиной начальнице.
– Уберу позже, еще не полный бак! – огрызнулась Ольга, и снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием сухих хлебных крошек, разгрызаемых тысячами зубов.
3
Эта совершенно особая звуковая палитра тишины вивария стала первым впечатлением Зинаиды, переступившей порог этого подземелья много лет назад. Незадолго до того после чересчур долгого запоя уволили пару уборщиц – «лаборантов по уходу за животными», как метафизически туманно позиционировалась эта работа в трудовых книжках. Тогдашняя заввиварием написала от руки с десяток объявлений «Требуется…», расклеив их на остановочных столбах вокруг института. После этого и появилась Зинаида – молчаливая, исполнительная, работящая.
Природа наделила ее совершенно невыразительным лицом, обрамленных куцым венчиком выбеленных перекисью волос. Эта явная недоработка генетики, словно в оправдание, с избытком компенсировалась эффектной фигурой: девически тонкая талия плавно переходила в крутые детородные бедра, и так волнительно там все играло, перекатывалось и переливалось, что хотелось смотреть и смотреть.
Оказалось, что Зинаида не местная, а переехала к родственникам из украинской глубинки, где уже успела выйти замуж, родить ребенка и развестись.
Следовало отдать должное ее находчивости: заручившись институтской справкой о принадлежности к обслуге мира животных, она без экзаменов поступила в ветеринарный колледж. К моменту получения диплома старую заведующую виварием отправили на пенсию, и Зинаиде предложили это место. Не заставив себя долго уговаривать, она быстро вошла во вкус и курс дела: лично перезнакомилась с поставщиками (батоны, творог, зерно, комбикорм), подружилась с бухгалтерией, поставила на место алкоголичек-уборщиц.
Более всего Зинаиде нравилась и удавалась представительская часть ее обязанностей. В середине дня, ближе к обеду, она подкрашивала иссиня-бледные губы, становилась на каблуки и, покачивая бедрами, поднималась из пропахшего мышами подвального бункера на второй этаж в бухгалтерию. Сотрудницы бухгалтерии – простые девахи с нархозовскими дипломами – быстро признали ее своей и с удовольствием наливали ей чашку чая. За чаем обсуждалось все – бухгалтерия, что твоя инквизиция, – и Зинаида вошла в узкий круг людей, знавших о закулисных буднях института гораздо больше, чем положено по должности.
Между тем, удачно обустраивалась и личная жизнь. Напротив института располагался «почтовый ящик» – работавшее на «оборонку» исследовательское учреждение закрытого типа, вход в которое, томясь от бездействия, охраняли дюжие молодые ребята в милицейской форме. С одним из них – рослым, голубоглазым, с пшеничным чубом, непослушно выбивавшимся из-под фуражки, – у Зинаиды как-то сразу все сложилось. Очень кстати пришлось, что он давно жил в общежитии, но был уже близко на очереди на жилье, причем семейный статус существенно ускорял его получение. В общем, Зинаида второй раз оказалась замужем.
Вскоре молодожены получили квартиру и зажили вполне благополучно. Супруг, правда, не хотел детей, но Зинаиду это не огорчало – свой у нее уже был, к тому времени почти взрослый.
Так складывались судьбы Зинаиды и Ольги, почти ровесниц. У одной – от университетской скамьи до уборщицы; у другой – от вонючей тряпки-полотерки и беспросветной доли «разведенки» до белоснежного, по фигуре, крахмально-хрустящего халата и хорошего парфюма, гармонично дополнявших размеренно-благоустроенный быт и жадного до молодых утех мужа.
Нет смысла говорить, что обе женщины не любили друг друга.
4
В лаборатории текучесть кадров была невелика: с академической службы, как правило, выносят только «ногами вперед». Сотрудники работали бок о бок долгие годы, а то и десятилетия. За такое время друг о друге узнавалась вся подноготная, и прежде всего – слабые стороны и уязвимые места. Знание таких подробностей срывало с людей флер значительности и напускной важности, а потому, сплетничая друг с другом и перемывая косточки коллегам, сотрудники величали «третью сторону» предельно просто: по имени. Даже великовозрастного завлабораторией, несмотря на профессорское звание и авторитет, называли либо кратким и емким «шеф», либо не более чем инициалами – Б.Б. Но было два человека, которые даже «за глаза» неизменно удостаивались полного имени-отчества: Геннадий Семенович и Николай Антонович.
Надо признать, было за что: какие бы сиюминутные выгоды и бонусы это ни сулило, они никогда не подличали и не опускались до откровенно практичной неправды. Много позднее один из них натолкнулся на арабскую пословицу: «Если нельзя говорить правду, не аплодируй лжи». Они и не аплодировали.
Их считали если не друзьями, то приятелями. И в самом деле, совместная работа была приятна им – в том смысле, что доставляла удовольствие. За долгие годы они научились понимать друг друга не то что с полуслова – с полубуквы, и это приносило свои плоды. Со временем в их ведение перешли самые сложные и трудоемкие методики, с помощью которых лаборатория неизменно успешно отчитывалась перед институтским руководством.
Это давало неформальное право на некоторые привилегии. Только они могли с утра позвонить шефу – фанатичному поборнику порядка и дисциплины – и предупредить, что «немного задержатся», называя причину как есть – «проспал чего-то…». И – вершина наглости, – терпеливо выслушав благожелательное ворчание Б.Б., аккуратно напомнить: «Вы запишите меня в библиотеку, чтобы неприятностей не было…»
5
Более разных, абсолютно непохожих друг на друга людей надо было поискать. Даже внешне: Николай Антонович – позволим себе дерзость и будем величать его проще: Николай – высок, строен, подтянут, безукоризненно выбрит, в элегантном костюме-тройке и галстуке в тон. У Геннадия в школе была кличка – «Пьер Безухов»: среднего роста, с широкими покатыми плечами и массивным торсом, скрадываемым безразмерным дешевым свитером поверх неизменных потертых джинсов. Физическое сходство с героем Толстого дополняли очки, которые в сочетании с густой рыже-седой бородой изрядно старили его.
Они пришли в лабораторию почти в один год, но в разном статусе. Николай – подающий большие надежды баловень судьбы: блестящее окончание медицинского института, работа в столичном пригороде на должности замглавного врача райбольницы. Он и жену подобрал себе под стать: однокурсница из благополучнейшей по советским меркам инженерно-врачебной семьи с просторным частным домом в черте столицы. Многократная чемпионка республики, она стояла вполоборота в профиль на фотографии под стеклом его столешницы, натянув тетиву лука, и порыв ветра отбрасывал длинные волосы, открывая умопомрачительно красивые ноги из-под спортивной мини-юбки. Самому Николаю, хотя и выходцу из провинциальной глубинки, также не приходилось стыдиться за свое «приданое»: родной брат – академик и директор учреждения, от названия которого невольно хотелось поежиться: «НИИ онкологии и медицинской радиологии».
В общем, пара получилась на загляденье, хоть куда, а лучше – на обложку журнала. Жаль, не доставало подходящих изданий, а то бы красоваться ей в глянцевом формате…
И девиз Николая, ледоколом пролагавший ему путь по жизни, сочетал по-крестьянски мудрость и простоту и звался – Его Величество Здравый Смысл. И бытие его шло замечательно.
Как по маслу.
6
Пожалуй, именно здравого смысла, практичности как раз и не доставало Геннадию. В элитной университетской группе, где он учился, девки были на подбор: холеные, образованные, породистые. Мешковатый, стеснительный, к тому же, «бесквартирный» выходец из семьи провинциальных учителей не котировался у них завидным женихом. В общежитии он как-то познакомился с девушкой, оказавшейся, как и он, дочерью деревенских педагогов. Они понравились друг другу и вскоре поженились: вместе было проще выживать в чужом городе. «Ничего», – сочувствовали Геннадию приятели-студенты, ухитрившиеся подыскать жен среди коренных жительниц столицы. И доброжелательно похлопывая его по плечу, снисходительно-обнадеживающе добавляли: «Второй раз женишься удачно…»
Прошли годы. Рухнули империи, сменились эпохи. А Геннадий – ничего: выжил, чертяка. Устоял. Уцелел. И семью сохранил – через безденежье и бесквартирье. Узнавая об этом при редких встречах, авторы студенческих снисходительных ободрений, давно состоявшие в разводе и превратившиеся в обремененных алиментами лысеюще-молодящихся пузатиков, вопрошающе подымали брови – дескать, каким образом, за счет чего?.. Геннадий недоуменно разводил руками: сам не знаю, как-то так получилось. Рационального толкования не складывалось, а в иное он не вдавался.
Хотя, конечно же, всегда и твердо знал.
7
С раннего детства он почему-то явственно ощущал, что все события, которые составляли стержень и смысл жизни окружавших его людей, определялись не столько их активностью и сверхусилиями, сколько созвучием и подчиненностью этих усилий логике Воли Высшего Разума, неизменно присутствующей в судьбе каждого человека.
Однажды он почувствовал это особенно остро: то было лето после третьего курса. Группу послали на учебно-производственную практику в маленький прибалтийский городок: до Рижского взморья – рукой подать. Отработав смену на заводе, они всей толпой катили на электричке в Юрмалу купаться и загорать. Ближе к вечеру он старался незаметно отделиться, садился в электричку и ехал в Ригу – просто побродить по необычному городу, побыть одному. Как-то раз, идя по узкой незнакомой улочке, он вдруг услышал чудесную музыку, показавшуюся нереальной, словно неземной, в надвигающихся вечерних полутенях. Он узнал звуки органа, доносившиеся откуда-то снизу. Всмотревшись, он увидел ступени, которые вели в какой-то подвал и спустился по ним, потом толкнул тяжелую дверь и очутился в сумеречном костеле.
В полумраке крохотного помещения смутно угадывались силуэты немногочисленных прихожан, играл орган. Не отдавая отчета своим действиям, не зная ни одного текста Писания, он стал молиться. Сын еврея и православной, он просил католического Бога о милости и снисхождении и, ему казалось, ощущал теплую ладонь Всевышнего у самой головы. Это ощущение близости Создателя потом осталось с ним на долгие годы, но в полной мере повторилось один раз.
Дочка закончила школу и поступала в институт. Все было зыбко, неуверенно, тревожно. Домашние были измотаны, измочалены тревожным ожиданием вердикта судьбы. Ситуация осложнялась еще и тем, что к последнему экзамену, отказавшись от репетитора, Геннадий готовил дочку сам, а значит, в случае неудачи было кого винить.
Рано утром в день экзамена поехали с дочкой к институтскому корпусу. Поднявшись на ступеньки перед входом, постояли немного молча, словно перед большим расставанием. Дочка вдруг сказала:
– Если поступлю, давай купим Мишку. Большого и плюшевого.
И исчезла за дверями.
Он спустился к скамеечкам, занятым такими же, как он, родителями с бледными от бессонницы и влажными от адреналина лицами. Потянулись часы ожидания.
Сколько он будет жить – не забудет, как вышла дочка. Не вышла – вырвалась, выпорхнула и – полетела, почти не касаясь ступенек. И, глядя на нее, все заулыбались, оживились, и было понятно без слов: поступила.
Опьяненные радостью, рванули в универмаг и купили давнишнюю вожделенную мечту – большущего желтого плюшевого Мишку с круглыми добродушными глазками. С залитого солнцем проспекта спустились в подземный переход и вдруг из глубины его полумрака, словно ожидая их, хлынула аккордеонная музыка. Старенький уличный маэстро играл «На сопках Манчжурии». Они шли по переходу, а волны вальса все догоняли и догоняли их, как обещание чуда. Почему-то было так легко, словно в невесомости, и казалось, сам Создатель добродушно подталкивает их в спину Большим Пальцем…
8
Выращивать можно всякое. Рожь, к примеру, или пшеницу… Да мало ли что!
А можно – раковые клетки, опухоли, воплощенную смерть. Присмиревшую, как мирный атом, до поры-времени. Работа эта ответственная и доверяется, как водится, человеку ответственному и только одному : Смотрителю-за-Раком.
Знает Смотритель твердо: опухоль требует жратву – живую плоть.
Для того раз в две недели отмывает Смотритель стерильно миллионов десять-двадцать жаждущих плоти раковых клеток и, выбрав подходящую по размерам мышь, вводит их ей в самое брюшко. Хорошо раку там: тепло, влажно, а, главное – еды всякой вдосталь. И начинает рак благодарно расти, размножаться, в объеме и количестве увеличиваться.
Живет себе мышка, как обычный человек: вовремя ест, регулярно испражняется, о самочках нет-нет да помышляет – а в животе тем временем целая раковая колония. Растет живот, круглеет, словно шар. К концу второй недели мышь уже едва тянет его по опилкам, почти не ходит.
Тогда наступает черед Смотрителя: извлекает он стерильным шприцем содержимое шара-живота, снова отсчитывает клеток миллионов десять-двадцать, отмывает их дочиста и вводит понравившейся мышке. Прямо в брюшко.
И так – до бесконечности… Пока рак живет и побеждает.
9
В лаборатории за раком присматривал Геннадий. По первому порыву хотел было от этой работы отмазаться: хлопотно (и без того пропадаешь с мышами сутками), стремно (угробишь опухоль – позору не оберешься), да и боязно: рак – не туберкулез какой-то там…
А тут – как прибоем накрыло, захлестнуло, неудержимо увлекло: и «Раковый корпус» Солженицына с его чудо-аконитом, и нереально доступная масляно-водочная смесь Шевченко, и Марк Жолондз со своим безвременником, и Тищенко со ступенчато-пошаговой противораковой рецептурой…
И осенило: обладание опухолевыми штаммами – не простая случайность, но Шанс, дарованный Провидением. Возможность – экспериментально проверить эти знаменитые методики, порожденные то ли вдохновением, то ли бессильным отчаянием. Проверить, оценить – и поведать людям: тем, кто в схватке с судьбой цепляется за соломинку жизни.
Он погрузился в эксперименты. Вечерами, когда сотрудники уходили домой, он спускался в подземелье вивария («шахту», как называли этот пыточный подвал с его легкой руки) и начинал творить. Десятки комбинаций ядовитых и экзотических растений, настоев, настоек и рецептур – все шло в дело, ничего не отвергалось «с кондачка». Жизнь шла по особому календарю: дни перевивания опухоли (по научному – инокулирования), дни введения препаратов, дни замеров опухолевых границ, дни математической обработки результатов сливались в единый поток необыкновенно насыщенного, предельно осмысленного отрезка жизни, имя которому – согласие с Высшей Мудростью, смирение перед Промыслом, подчинение Замыслу.
И что удивительно: в тех случаях, когда двух рук недоставало, всегда находились люди, которые без унизительных просьб оставались после работы и с удовольствием помогали, словно интуитивно ощущая удовлетворение от сопричастности этим, по выражению Б.Б., «авантюрам». (Будучи осведомленным о происходившем из первых рук, профессор не чинил препятствий: отчасти из уважения к Геннадию, но, в основном – из опыта: жизнь научила…).
10
Для перевивки обычно требовались два упитанных, но не ожиревших, самца. Животные входили в самую силу, когда весили граммов 20-22, но именно такие пользовались повышенным спросом и у всевозможных медицинских контор, скупавших их для своих целей. Как и положено в справном племенном хозяйстве, все мыши, сколько бы сотен их ни было, стояли на строгом учете как каждодневные потребители батоново-творожной и иной снеди, а, значит, брать их в эксперимент полагалось только с разрешения Зинаиды.
Распахнув дверь мышиного бокса и не увидев там хозяйку вивария, Геннадий задумчиво остановился на пороге, наблюдая за реакцией животных. Уловив движение воздуха от открывшейся двери, мыши высовывали, насколько позволяли прутья решеток, кончики мордашек и начинали часто-часто дышать, жадно впитывая новые запахи. Отгороженные от мира высокими бортиками клеток, они полагались только на свой нос: обоняние заменяло глаза и уши. Контингент посетителей бокса был невелик, и животные до мелочей знали запах каждого.
Больше всего они любили потные подмышки Ольгиного халата, пропитанные духом батонов, которые она разносила в большом тазу под рукой. Холодно-хрустящий белоснежный халат Зинаиды с едва уловимыми остатками крахмала неизменно заставлял напряженно замирать и затаиваться: он сулил неизвестность перемен. Были дни удушающе-резких запахов спиртовых растворов и разведений, которые приносили с собой сотрудники-экспериментаторы; учуяв их, животные тревожно метались по клеткам, предчувствуя муки и боль.
В какофонии ароматов, обильно источавшихся людьми, притаился ни на что не похожий: запах умиротворяющего покоя. Он исходил от Геннадия. Мышонок не однажды наблюдал, как, присев за столом во время инъекций и сконцентрировавшись целиком на манипуляции, Геннадий неловким движением локтя сдвигал крышку клетки. Почувствовав неожиданную свободу, мыши осторожно выкарабкивались на пластмассовый бортик и мгновение балансировали на нем. Далее происходило непонятное: вместо того, чтобы решительно спрыгнуть на стол и, молниеносно рванувшись, раствориться в лабораторном хламе, мыши осторожно-деловито, цепляясь за ткань халата, заползали на необъятные плечи Геннадия и уютно устраивались там, напоминая огромных инопланетных серо-черных оводней. Однажды эту сцену застал корреспондент газеты, случайно заглянувший в виварий в поисках экзотики. Выхватив аппарат, он снимал и снимал, пока не закончилась пленка.
– Приезжал кож-вен, забрали мышей по предоплате – размышления Геннадия прервала запыхавшаяся, с пачкой бухгалтерских документов в руках, Зинаида. – Еще и не хватило, всех до единой подмели: им для чего-то на сифилис надо.
– А мне чего взять, сегодня же перевивка…
– Ну возьмите разок нестандарт, ну что делать! Вот один переросток – подцепив мизинцем решетку, она выхватила из клетки белого самца: огромного, матерого, настоящего Мыша.
– А второго… Вот этого, крохотулю! – Мышонок не успел опомниться, как два ловких разящих свежим маникюром пальца взметнули его за хвост и в одно мгновение мягко перекинули в новую клетку. В нос шибануло застарелой спермой, и на секунду перехватило дыхание. Смрад исходил от исполинского чудища, грузно расплывшегося в углу и недоуменно таращившегося на Мышонка. От ужаса затрепыхалось сердце, и, пытаясь унять его клокотание, Мышонок часто и мелко дышал, вжимаясь всем телом в холодную пластмассу бортика.
Руки Геннадия – Мышонок сразу узнал их по исходящему теплу – подхватили клетку и куда-то понесли. Повеяло подвальной сыростью, и Мышонок понял, что путь лежит через коридор в манипуляторскую. В этой огромной мертвенно-кафельной комнате, залитой нестерпимо ярким светом и вечным холодом, Мышонок уже бывал несколько раз. Прежде чем сделать инъекцию, его шмякали на платформу торсионных весов и, недовольно бормоча, всякий раз возвращали обратно в клетку: дескать, мал еще, подрастай…
Похоже, смена обстановки на время отвлекла и страшного соседа. Мыш то и дело озирался, принюхивался, беспокойно семенил лапами в своем углу. Томила неизвестность.
Снаружи, из-за пределов клетки, доносилось металлическое позвякивание шприцев о стерилизатор, глухо ударялись донышки пробирок о пластмассу штатива. Загрохотала о борта приоткрывающаяся решетка, и пальцы Геннадия подхватили отчаянно затрепыхавшегося Мыша и уволокли наверх. Послышалась шумная возня, сменившаяся отчаянным визгом, – и те же пальцы стремительно сунули Мыша обратно.
Жадно хватая воздух и все равно задыхаясь, Мыш заметался по клетке. От него несло спиртом и чем-то еще – непонятным и от этого опасным. В памяти Мышонка таились тысячи ароматов, уловленных им хотя бы однажды, и он лихорадочно пытался подыскать аналогию новому, но додумать не получилось.

