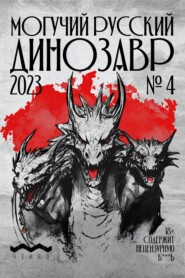
Полная версия:
Могучий Русский Динозавр №4 2023 г.

Могучий Русский Динозавр № 4
Очень красиво | Олег Золотарь

Тот день я хорошо запомнил. Запомнил в самых мельчайших подробностях. И неудивительно. Ведь это был самый важный день в моей жизни. Самый важный. Вот прямо самый.
Жили мы тогда с отцом у бабули с дедулей. На постоянной основе жили, хотя и считалось, что временно. Дом низколобый и сейчас перед глазами стоит: сени, четыре комнаты, образа по углам, кусты алкоголий у крыльца.
Цветы почему-то особенно в память врезались. Тёмно-зелёные стебли, жёлтые бутоны с крупными лепестками, капельками росы. Красивые цветы. Очень красивые. За ними бабуля всё увивалась – лишь бы не засохли, лишь бы не вымерзли. Столько заботы на них перевела, что для прочей жизни и вовсе не осталось.
Строгая бабуля была. За словом в карман не лезла, в ответ церемоний не требовала. Вот и в тот самый день – всё цветы подвязывала да отца материла. Крепко материла, самыми последними словами. За жизнь его недалёкую, за то, что только хуем о перспективах думает, за то, что раньше их семья зажиточной считалась и уважением пользовалась, а нынче люди разве что головами при встрече кивают. И ведь не поймёшь, что у этих людей на уме. Но вряд ли что-то хорошее. А всё из-за отца. Из-за него. Только из-за него.
Отец на брюзжание бабули внимания не обращал, со двора собирался. В широкой шляпе, лёгких туфлях парусиновых. Улыбался, усы расчёсывал, мне подмигивал.
– Погода хороша! Сегодня все красавицы у окон будут да на крыльце! Скоро мамку тебе новую приведу! Хочешь? Хочешь новую мамку?
Я на лавке сидел, отцу не отвечал, хмурился. Знал, чем всё закончится. Временами и вправду приводил блядей, жизнь с дешёвой тушью перепутавших. На день-другой задерживались, редко дольше. Да и не каждый раз подобное отцу удавалось. Чаще один приползал, под утро, соплями по земле. Страдал день-другой чувствами неразделёнными, а после снова – на выгул.
Лишь только отец калиткой хлопнул, из виду скрылся, бабуля за кур принялась. Созвала, собрала пернатых вокруг себя, вздохнула тяжко. Ох, больны куры! Очень больны! Жрут, кудахчут, а яиц не несут!
Вот и решила бабуля аспирином их отпоить, чтобы пропотели они и поправились. Словит куру, между колен зафиксирует, одной рукой клюв приоткроет и прямо в горло испуганному пернатому существу микстуру вливает. Вливает, а сама на меня косится.
– На батьку дуешься? Ну дуйся, дуйся! Вырастешь – сам таким же будешь!
Закипели мои мысли горькими клятвами: усов таких себе не отращу, шляпы с полями не надену. Да и не отец он мне вовсе! Не отец! Какой же отец, если всегда от нас с мамой уходил? Даже когда ещё в городе жили. Встанет утром, на балкон выйдет. «Хорошо-то как! – скажет. – Погода!» А потом оденется и уйдёт. Когда вернётся – неизвестно. Но обязательно пьяный, в помаде и без денег.
Мать не перечила – смирилась к тому времени. Компот часто варила яблочный. Я не любил, но пил. Наверное, чтобы мать не расстраивать.
– Вот и ты таким будешь! Ровно таким же! – бабуля сказала, птицу очередную оздоравливая.
– Хуй тебе! Хуй угадала! – не сдержался я. – Не буду таким, как этот! Да и не отец он мне, слышишь?! Не отец!
Бабуля в ответ улыбнулась только.
– Отец, не отец… Мордами-то одинаковы! А морды с судьбой всегда переплетаются.
– На свою морду лучше посмотри!
С лавки вскочил, ведро пустое ногой подфутболил, кур испугал, в дом убежал. Долго после отдышаться не мог. Понимал, что к реке после подобных восклицаний не отпустят. И без того редко отпускали. Всё боялись, что утоплюсь. Сам слышал не раз, как за спиной моей шептались: мол, если к реке отпустить – обязательно утопится. Утопится, как пить дать! И что потом люди подумают?
Шептались, надо сказать, не просто так, не из вымысла. Я и вправду несколько раз топиться убегал. Но только давно, когда из города сюда переехали. Почему-то казалось мне, что утопиться – идея в самый раз. Но так и не утопился. Однажды в воду зашёл и понял, что не в смерти дело, а в жизни. А раз так, то и мешать их воедино смысла нет.
Но бабе объяснять подобное смысла не было. Знал, что не поверит. Кроме Бога вообще никому не верила, хотя Бог у неё какой-то очень странный получался – всё знал, всё видел, всё мог, но при этом не считал нужным вмешиваться в судьбы человеческие. Мол, как проживёте – так с вас и спрошу. Я даже интересовался у бабули: зачем верить в такого Бога? Какое ему дело до нас? И какой в таком случае с нас может быть спрос? Но ответа так и не дождался.
А дома делать нечего – тоска, полумрак, сожаления.
К деду в комнату заглянул, воды стакан старику принёс.
Без ног дедуля наш был, на кровати всё время, в тишине и одиночестве. Баба целыми днями хозяйством пернатым и цветами занималась, к деду редко заглядывала. Батька к старику и вовсе неделями не показывался – смрада старческого на дух не переносил. Я в основном и заходил.
А комнату дед самую малую в доме занимал. Две кровати в ней стояли – родные сёстры первым бронепоездам. На той, что у стенки, хлам кучами свален был: одежда, подушки, прочее – остатки той самой зажиточности, о которой бабуля всё время вздыхала. А уж на той, что у окна, сам дедуля обосновался. Лежал, днями фотоальбомы пересматривал, из рук своих серебряных выпустить боялся. Смирился с жизнью, которая одними воспоминаниями осталась. По молодости всю страну вдоль и поперёк исколесил по долгу службы. В какой стороне света ни фотографировался – везде ноги были. А домой вернулся – не стало ног! В лесхозе потерял, по травме производственной. Но инвалидом себя не считал. Как был в душе моряком, так им и остался.
– Дед, а баба меня со двора не пускает! – пожаловался я.
– И правильно делает! – дед ответил. – Зазеваешься – под машину попадёшь, без ног останешься. Или в реку, чего доброго, свалишься! А утопшему и от ног толку нет.
– Так я к реке и не думал, – соврал я. – В фотоателье сходить хотел.
– В фотоателье? – удивился дедуля.
– Ну да. У тебя целые альбомы фотографий, а у меня ни одной! Обидно.
Дед задумался на минуту, в окно приоткрытое, через занавеску, бабе крикнул:
– Галя! Галя! Малого со двора пусти!
– Это ещё зачем? – баба отозвалась.
– В ателье пусть сходит, сфотографируется, пока ноги есть!
– Ещё чего выдумал! Дома пусть сидит!
Я к деду на кровать присел, одеяло ему поправил, вздохнул горестно.
– Вот так, – голосом печальным произнёс. – Вроде и ног полно, а идти этими ногами некуда!
Улыбнулся дедуля ласково, рукой по шевелюре моей провёл.
– Слышь, ты сопли вытри! Моряки не плачут! Давай прямо через окно, в сад! Там – через забор. Я тебе разрешаю. Чуть что, скажу – отпустил!
– Ох и вкатит тебе бабуля за разрешения подобные!
– И что она мне сделает? – засмеялся дед. – Ноги, что ли, оторвёт? Только это, к реке – ни шагу!
– Ясное дело! – подмигнул я дедуле, на подоконник взбираясь.
Ясное дело, к реке сразу и направился.
А река Явь прямо через наш посёлок протекала. Большая, красивая, неухоженная. Коварной считалась в русле своём – тонули в ней многие. Но я всегда понимал, что реку в этом глупо упрекать. Люди любят на душу бессмертную полагаться, а чаще на смертное тело следовало бы. Ну а река – она течёт себе и течёт. Её дело именно в этом течении, а не в судьбах людских.
Вот и любил я течение это наблюдать, каждую возможность использовал. Даже место секретное у меня для этих наблюдений со временем нашлось: с моста по тропинке налево, через кусты, мимо развалин бывшего сырного комбината, к садам Юрьевским.
Ивы там красивые, осока, берег хороший. Явь наискось видно, прямо как на ладони. Тихо, хоть и посреди посёлка. Сядешь на берегу – и даже не верится, что вокруг избы, судьбы, самогон, почтальон тётя Люба на велосипеде, два дома сгоревших, четверг на календаре, клуб в аварийном состоянии, автобаза, цистерны, два кладбища, старое и новое, но мамы ни на одном нет, потому что в городе похоронили.
А на Явь глянешь – сразу спокойнее становится. Как будто лет двадцать поверх своего возраста прожил, и всё, что случилось в жизни плохого, произошло когда-то давным-давно. Так давно, что и сожалеть об этом глупо и незачем.
Вот туда и направился.
Одно смутило – фигуру заметил. Как раз на моём месте сидела.
Девица. Юная совсем. Платье простое, в клеточку.
Присмотрелся внимательнее – глазам не поверил. Варя из седьмого «Б». Та самая… Пару раз в школе взглядами встречались – оторваться от глаз её не мог. В них – та же Явь, но такая, в которой захлебнуться не страшно, потому что только с этого настоящая жизнь и начинается.
А вот ближе познакомиться с Варей у меня не получалось. В школе она редко появлялась на правах ребёнка из семьи неблагополучной. Пропадала часто, с милицией её искали. Каждый раз находили, но где-нибудь не в посёлке нашем. Говорили, что садилась Варя на электричку и ехала, куда рельсы ведут. Возвращали потом её, головами кивали, родителям на вид ставили. Но Калугиных вся округа и без того знала. Им что на вид ни поставь – всё выпьют.
А сама Варя – красивая, скромная, грустная. Веснушки, как Млечный Путь. Целая вселенная.
Откашлялся я громче, чтобы обозначить своё присутствие и Варю не испугать. Она оглянулась, щёки ладонями вытерла. Видно, что плакала недавно, но вряд ли топиться пришла. Иначе уж утопилась бы давно.
– Ой! – сказала. – А как это ты сюда забрёл? Тут ведь обычно человека не встретишь!
– Почему это? Я здесь часто бываю.
– И чего?
– А просто так. Место моё здесь секретное.
– Секретное?
– Ну да. Когда заебёт всё на свете, сюда прихожу отдыхать душой и мыслями.
Неловко, конечно, в нежностях таких признаваться. Не по годам сантименты. Но и врать Варе не хотелось. Почему-то совсем не хотелось.
– Вот и я из дому убежала, – вздохнула Варя.
– А чего убежала? – поинтересовался я.
– Мать с батькой опять напились, лица друг другу разбивают, кричат. Как и всегда. А я боюсь.
– А чего боишься?
– Так ведь орут…
Беспомощно сказала, совсем как девочка маленькая. Успокоить мне Варю захотелось.
– Ну орут и орут. Они и дальше пить будут, буянить. Выбелятся со временем, отменятся. Умрут потом. Они уже и сейчас почти умерли. Просто сами этого пока не осознали. А мёртвых жалеть надо. Бояться-то их чего?
– А я всё равно боюсь.
– Ну, тогда терпи, Варя. Если очень долго терпеть, со временем похуй станет!
– А ты откуда знаешь? – недоверчиво на меня глянула.
– Ну а как не знать? У самого батька по бабам шатается. Они его, дурака, для виду расцелуют, напоят, деньги заберут, а самого под забором или в канаве бросят. Мать своими похождениями со света изжил. Тут уж выбора не остаётся: или в Явь, или похуй.
Задумалась Варя.
– Не хочется. По-другому хочется, – тихо сказала.
– А как это – по-другому?
– Ну, чтобы и не в Явь, и не похуй.
– Вроде любви, что ли? – догадался я.
– Ну да.
Помолчали потом. Долго помолчали. После слов о любви всегда почему-то молчать хочется.
А потом снова разговаривали. Много разговаривали, до самого вечера.
Я Варе рассказал, что мы раньше в городе, в общежитии жили. Но папа маму вроде бы вообще никогда не любил и женился на ней только потому, что я родился. А у мамы родных не было, и бабуля маму поэтому терпеть не могла, ведь семья бабули всегда считалась зажиточной и уважаемой. Ещё вспомнил, как однажды в детстве по неосторожности папе на брюки тарелку горячего борща опрокинул. Он потом долго скакал по комнате и кричал маме: «Зачем ты его родила? Зачем ты его родила?»
Варя рассказала, что живут они здесь давно, сколько она себя помнит. Хотя в молодости отец всё по заработкам мотался, денег много заработать планировал, чтобы в столицу переехать и жить не хуже, чем другие люди. Но у него не получилось, потому что работать тяжело он, на самом деле, очень не любил, а вот водку пить ему всегда хорошо удавалось. А мама очень хорошей была, но только раньше. Намного раньше – ещё когда сама Варя совсем маленькой была. Такой маленькой, что даже ноги колесом. Вот именно тогда какой-то дядя Георгий предлагал маме всё бросить и с ним уехать. Куда-то далеко уехать. Так далеко, что самолётом лететь и потом ещё несколько дней добираться. И Варю с собой забрать хотел. Но мать в самый последний момент почему-то передумала. Вроде как честь свою терять не захотела, потому что люди языками чесать начнут и мало ли что ещё. Дядя Георгий долго ждал, надеялся, что мама передумает. Но мама не передумала. Поэтому дядя Георгий в конце концов уехал, а мама сразу после этого запила. Потому что ошиблась, наверное, и надо было с дядей Георгием уезжать. Вот так и получилось: когда папа пьёт и денег не зарабатывает, а мама пьёт и о своей ошибке всё время думает – тогда плохо в семье. Тогда громко и мордобой. А сама Варя много раз сюда приходила топиться, но не утопилась, потому что захлёбываться очень страшно и жить почему-то всё равно хочется. Но только не здесь, а где-нибудь там. Поэтому и садилась иногда Варя на электричку, ехала в любую сторону, лишь бы убежать, скрыться, вырваться. Но потом понимала, что ни на шаг не уехала, а осталось там, где была. Навсегда осталась.
– Это потому, что убегаешь ты неправильно, – честно сказал я Варе.
– Как это – неправильно?
– Ты в направлениях убегаешь. А в направлениях везде всё одинаково. Убежать только в будущее можно.
– В будущее? – удивилась Варя.
– Конечно. На то оно и будущее. В нём у каждого шанс есть. Главное – не просрать его, шанс этот.
Снова задумалась Варя, на Явь взгляд перевела.
– А что там, в этом будущем? То же самое, что и в направлениях. Только ещё и одной.
– Так в будущее поодиночке соваться нечего. Только с кем-нибудь.
– А с кем же?
– Ну, не знаю. С кем-нибудь, кому тоже в будущее охота.
– Вроде тебя, что ли? – улыбнулась Варя.
Но улыбнулась хорошо, без насмешки. Щёки мои напрасно вспыхнули.
– Ну это я так, к слову, – попытался оправдаться я. Но оправданий не потребовалось.
– А я бы и с тобой не против, только если в этом будущем всё хорошо будет. Даром ли здесь, в нашем месте, встретились? Одинаково на Явь смотрим.
За руку я в этот момент Варю взял. Не так, чтобы уж прямо с намёком, а так, чтобы действительно вместе получилось. И оно начало получаться. Руку Варя не убрала.
– А когда это будущее, по-твоему, начнётся? – поинтересовалась.
– Скоро, Варя, скоро уже. Школу окончим. Сами за себя решать станем. С этого будущее и начинается. Главное – не бояться его.
– И что мы сразу в будущем делать будем? В город уедем?
– Обязательно. Квартирку там найдём, работу. И не так, чтобы для заработков и ради столиц, а просто для себя, для каждого следующего дня. По хозяйству я, конечно, не особо хваток. Даже плинтус не знаю, как правильно прибивать, если ремонт вдруг делать придётся. А в будущем ремонты всегда случаются. Но я буду стараться, обязательно что-нибудь придумаю. Вот увидишь!
– И у нас всё будет хорошо?
– Конечно. Главное, чтобы вместе. Будущее только на этом и основывается.
Поднялись мы в этот момент с земли. Вечерело. Я Варе свитер свой на плечи накинул, чтобы теплее ей было. Она на меня взглянула с благодарностью. Так что и мне теплее стало. Долго стояли потом в тишине, смотрели, как камыш нежно колышется, как вода берег целует, как небо плотнее к земле прижимается.
– А я пить не буду. Обязательно не буду. Ради нашего будущего, – вдруг прошептала Варя.
– А я на сторону ходить не стану. Вот прямо ни разу. Ни единого!
– Смотри! Если пойдёшь – яйца оторву! – тихо сказала Варя и сильнее сжала мою руку.
А потом мы снова смотрели на Явь.
Садилось солнце, отражалось в воде.
Было очень красиво.
2022
Мать | Тумен Монгуш
Посвящается Нурзат

Моя мать умерла год назад, и весь этот год, каждый день, я думал, как выглядит её тело. Там уже кости? Или же есть что-то, что напоминает старую кожу, туго обтягивающую череп, грудную клетку и всё остальное тело? Я бы мог обратиться к медицинским книгам или же к интернету, чтобы узнать, как разлагается живая плоть, но даже сама мысль об этом вызывала во мне отвращение к себе, стыд за то, что после её смерти, после её жизни, в которой я принимал участие с самого рождения, меня волнует лишь её состояние в гробу, под землёй, тем более зимой. Я пытаюсь вспомнить что-то другое о ней, но тогда всё, что мне приходит в голову, – это похороны. Она лежала в шестиугольной вытянутой коробке с лакированными стенками, руки скрещены на груди, а на лице не осталось ни одной сокращённой мышцы, которая бы говорила о её последней эмоции, о мыслях перед смертью – ничего, только маска, надетая рукой небытия. При этом меня и не волновало, что ни одного воспоминания мне не приходило в голову, волновал лишь гроб, лежащий в земле, и все биологические и химические особенности человеческого тела после смерти, и не волновало, что однажды и я окажусь там. Не думаю, что это нечто, что стоит познавать. С детства нас учат познавать только самое прекрасное: нас водят в парки, делают подарки на Новый год или дни рождения, радуются каждой нашей пятёрке в школе, но никогда не показывают то, с чем придётся столкнуться каждому. Нас учат, что жизнь надо любить и любить надо людей, и везде искать любовь. Но как найти любовь в мёртвом теле, в одиночестве?
Воспоминания о ней ко мне приходили постепенно, что заставляло меня чувствовать вину, словно я сам приложил руку к её смерти, к её старению, к её болезни, словно я ступил на тропу, ведущую меня к причине этой смерти, и причиной этого являлся я. Первое воспоминание было связано с зимним утром, когда я проснулся в холодной комнате и не хотел выбираться из-под одеяла, как это бывало в детстве перед детским садом; тогда мать сажала меня на колени и прижимала к себе так сильно, что пропадал холод и я чувствовал запахи её одежды и волос. Не нужно было гладить по голове, спине, говорить ласковые слова: достаточно только обнимать меня – и тогда я пойму, что она любит меня. Когда это воспоминание всплыло передо мной, я удивился, как удивляется человек, впервые увидевший закат. Наверное, я просто не понимал, что нужно чувствовать в такие моменты. Нужно ли заплакать? Найти в себе тоску?
К тому моменту я работал в небольшом кафе поваром и познакомился с женщиной по имени Нурзат. Она работала там уже семь лет. Она была доброй. Она встречала меня с улыбкой, ведь каждый из нас напоминал себе, что в этом мире всегда есть тот, кто поймёт наши тоску и страдания. Каждый вечер после работы за ней приходила её дочь, ученица одиннадцатого класса, и каждый раз в момент их встречи я желал увидеть улыбку на лице Нурзат – улыбку, с которой начинается её настоящая жизнь, её истинное «я», которое будет воплощаться и в дочери. И почему дочь приходила к ней каждый вечер? Потому что любила. Для меня это высшее проявление любви: матери не приходилось ехать в автобусе в одиночку, как это бывало со многими женщинами, которых я встречал по дороге домой; они смотрели в окно, где уже темно, холодно и одиноко. О чём они думали в тот момент? Наверное, ни о чём. Потому что об одиночестве не думают. Им живут. А вот Нурзат слушала, как прошёл день её дочери в школе, и то улыбалась, то расстраивалась, то рассказывала, какие посетители приходили в кафе; глаза Нурзат становились шире, когда её наполняли эмоции, а порой грустили, когда она не могла понять, как могут люди быть такими несчастными. А что потом? Они приедут домой, снимут верхнюю одежду, вместе приготовят ужин, а затем лягут спать. Да, вот это жизнь. Вот это любовь.
Моя мать никогда не готовила мне ужина. Она работала ночами, только утром мне делала завтрак, отвозила в школу, а по возвращении занималась тем, чего я никогда не замечал: мыла полы, ванную, туалет, посуду, стирала руками одежду, чистила мою обувь, гладила школьную форму, покупала продукты и несла огромные мешки на четвёртый этаж, затем ложилась спать, просыпалась и уходила на работу, когда я возвращался в уголок земли, готовый для жизни. И при этом я никогда не чувствовал себя одиноко: всё вокруг меня напоминало мне о её любви.
Мы жили в двухкомнатной квартире, я спал в одной комнате, а мать – в гостиной, где я каждый вечер ей готовил постель, то есть расстилал диван, стелил простыню, укрывал одеялом, при этом распахнув его в воздухе и нежно уложив, как лёгкую скатерть на стол, надеясь, что она когда-нибудь увидит, как искусно я это делаю; и часто представлял, как она ложится, положив руки под подушку, укрывшись одеялом до самой головы, закрывает глаза и засыпает в тишине комнаты. Однажды я вернулся из школы раньше, чем она ушла на работу, вошёл в гостиную очень тихо, зная, что она ещё спит; и вот она лежит, мир замер, свет вечернего солнца застыл на стене, и лишь ветви деревьев качаются за окном. В такие моменты я чувствовал, что о ком-то забочусь, что чья-то жизнь зависит и от моего существования. Я её любил.
Только тогда я стал понимать всю странность и нерациональность природы воспоминаний. Воспоминания – совершенно другая жизнь, никогда не знаешь, что попадётся тебе в следующий раз: то, что заставит тебя улыбнуться или заплакать. И прошлое каскадом обрушивалось на меня, и я не знал, что с ним делать, и не понимал, зачем оно вообще приходит в мою жизнь. Описать эти воспоминания в дневнике? Рассказать кому-то? А что дальше? В животном мире память используется для выслеживания жертвы, для возвращения в стаю, для обучения охоте, но какой смысл держать в голове воспоминания, которые приносят одну лишь боль, смотреть на полное радости или печали время, которое уже никогда не вернуть? И я пытался найти в них путь к истинной сущности моей матери, найти место её реального объективного существования в мире, где её уже, по сути, нет.
Вспомнил… Она ведь тоже потеряла свою мать. Мне тогда было двенадцать лет. Бабушку я не особо помню – приезжал к ней крайне редко из-за матери, которая и сама-то особо не поддерживала с ней связи, и их нить, обычно протягивающаяся между матерью и дочерью, была готова вот-вот оборваться, как мне казалось. Но когда бабушка умерла – а я сидел в это время в своей комнате, – по всему дому раздался пронзительный крик матери, словно кто-то ударил её ножом. А затем… снова похороны. Мать не плакала. И только сейчас я задаюсь вопросом: почему? Потому ли, что всё-таки взяло верх её безразличие к судьбе, и прошлому, и будущему, которое могло быть у них обеих, или же она смирилась с тем, что рано или поздно мы остаёмся одни?
В каждый день рождения бабушки, в октябре, когда листья уже опадают на сырую землю, и жёлтые, красные деревья становятся как никогда близко к вечернему пламени солнца, и эта гамма бликами танцует перед глазами, мать посещала кладбище, где была похоронена бабушка, убирала листья, протирала её памятник и клала гвоздики, затем вставала перед мрамором, на котором выгравировано лицо её матери, и молчала. И вновь… воспоминания. Я называл этот день днём молчания. В этот день мать ничего не говорила мне. Я никогда не понимал, зачем она берёт меня с собой, тем более что мне было больно находиться в этот день рядом с ней, я чувствовал себя ненужным, я даже ревновал мать к бабушке, что её любовь к умершему человеку настолько сильнее любви ко мне, что она предпочтёт сделать вид, будто меня не существует. Не скажу, что теперь я понимаю свою мать. Думаю, я никогда не смогу её понять. Но я представляю, что матери было ужасно одиноко в этот день, что ей было страшно в одиночку вновь увидеть лицо своей матери на памятнике, что если бы она пришла туда без меня, то вообразила бы себе, что она никому не нужна, что её никто не любит и не полюбит так, как любила её бабушка; и тогда у меня ком становится в горле. И я начинаю понимать, почему она всегда молчала в тот день: если бы я или она сказали бы хоть слово, то она бы разразилась слезами. Её слёзы, наряду с её беспомощным криком, – самое страшное, что я когда-либо видел и слышал в своей жизни. Она плакала и кричала, когда её избивал отец, и ей приходилось со слезами вести меня в детский сад. В детский сад ведь идут не думать о жизни, так? Туда идут удовлетворять детское любопытство, набираться знаний о счастье и радости, но путь мой в это царство грёз лежит через тернии страданий, слёз и криков. Слёзы матери – это доказательство того, что нас никогда не ожидает то, чего мы ждём. Жизнь подаёт нам то… ну, то, что подаёт, и либо ты принимаешь, либо заканчиваешь жизнь самоубийством. Я выбрал первое только потому, что мне было интересно, какое воспоминание готово выступить передо мной следующим.



