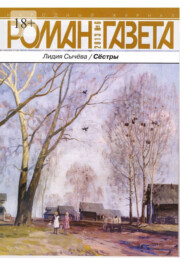скачать книгу бесплатно
– Милые, красавицы, погадаю вам, прошлое-будущее расскажу, интерес укажу!
– У нас денег нет, – честно предупредила Лера.
– Эх, кудрявая, много кавалеров, да все неверные, хочешь приворожу? А ты, рисковая, – угрожающе повернулась она ко мне, – думаешь, твоей жизни никто не знает? Что молчишь?
– Правда, ничего нет, – сказала я и вывернула брючные карманы.
В Домодедово мы с Лерой расстались – сразу подвернулся ее автобус. Я растроганно помахала ей, ловя себя на мысли, что стала благовоспитанной, как Гусев.
Оставшись одна, я первым делом бросилась к телефону. Номер не отвечал. «Ладно, – сказала я. – Ладно».
Автобус шел по МКАД, жаркий, как раскаленный сейф. И я думала: «Господи, надо было лететь на самолете и не разбиться, мучиться переводами, давить искушения, просыпаться под карканье ворон, спорить с Гусевым о политике, а с Лерой о феминизме; надо было просто выжить эти три недели, разворачивая свиток по сантиметру, и все для чего?! Чтобы глядя в его веселые глаза, ответно улыбнуться и сказать: «Все хорошо».
На Канарах
I
Ольга Дубравина улетала отдыхать на Канары.
– С мужем? – ехидно интересовалась по телефону приятельница.
– Нет, – Ольге почему-то было неприятно объяснять. – У него много работы.
– Значит, с любовником? – допытывалась трубка.
– Не говори ерунды! – искренне возмутилась Дубравина.
– Ну, тогда за любовником, – и на другом конце провода горестно, подытоживающе вздохнули.
…В первую же ночь на острове она проснулась в просторном и пустом номере от грохота – далекого и близкого. По балкону кувыркались пластмассовые стулья, бились о стеклянные двери. Внизу, у подножья шестнадцатиэтажного отеля, рокотал океан, свежая пена рвала темноту. Волн не было видно, прибой барабанно бахал в скалы, океан шел на штурм. Ветер выл, свистел и пугал,, как в голодную русскую зиму. Ольге вдруг стало страшно и одиноко. Почему-то ей представился голубой глобус в аккуратной сетке меридианов и параллелей; планетка была расчерчена на милые, симпатичные, но все же тюремные клеточки. Чья-то жестокая рука крутила, забавляясь, глобус, произвольно выбирала жертвы. Невидимая власть разгребала тесную московскую суету, легко, двумя пальчиками, взяла за шиворот Дубравину, играючи пересадила ее в другой квадратик планеты. Ольга не была «новой русской», летом отдыхала в Крыму или в Сочи и никаких экзотических островов никогда не желала. Все вышло странно: президент их фирмы, скупой, некрасивый грек с такими характерными чертами лица, что Дубравина при встрече с ним долгое время не могла сдержать улыбки, вдруг вызвал ее неделю назад, похвалил за толковый отчет и вручил конвертик с путевкой. Противиться было невозможно – в фирме это понимали. И вот теперь Ольга лежала на необъятной казенной постели, величиной с ее комнатку в Москве и тревожно слушала заоконный рев. Она накрывала голову тощей синтетической подушкой, но волокно лишь убирало шумы, помехи; казалось, что легионы, закованные в броню, идут на приступ, скандируя в тысячи беспощадных глоток «У-ез-жай! У-ез-жай!» Под утро, когда в гигантских – на всю стену – окнах посветлело; океан стал стихать, и она уснула.
Днем, лежа в теплом каменном закутке на берегу, она лениво вспоминала свои страхи. Ветер все еще трепал верхушки пальм, облака набегали и кутали непослушное солнце, но океан помалкивал, редко и презрительно шлепал волнами, брызги были похожи на плевки. Вода была зловещей и темной; редкие купальщики, преимущественно старые, изможденные немцы, ничуть не стеснявшиеся и, похоже, даже гордившиеся своей устрашающей наготой, отважно окунались, не решаясь плыть. «Все-таки странно устроена жизнь, – размышляла Ольга, механически подсчитывая глазами немцев, – в Москве – зима, черные остовы деревьев на бульварах. Казалось бы, мертвые деревья, без листьев, обледенелые. Что они делают всю зиму? Умирают и думают. А тут – вечнозеленая пальма. Плюс тридцать в любое время года. И прибрежные скалы – цвета ужаса», – она насчитала двенадцать немцев мужского и женского пола и прикрыла глаза.
Нет, хорошо ездить по свету, открывать новые страны, ступать по чужой земле, где рядом растут знакомые ромашки и диковинные, ушастые кактусы. Хорошо, – Ольга вспомнила сегодняшнее умиротворенное утро, – смотреть с высоты на банановые плантации, видеть, как из воздуха, напитанного ночным дождем, рождается многослойная радуга, тугая и яркая. Хорошо быть спокойной и беззаботной, иметь красивую, пахнущую кокосовым маслом, молодую кожу, носить короткие шорты и просторную майку, и ни о чем, ни о чем не думать! Она радостно повела плечами, приподнялась на локтях, по-новому взглянула на побережье. Здесь красиво и солнечно, и даже немцы, ровесники третьего рейха, чувствуют себя бодро. Значит, есть другие миры, совсем рядом с обыденностью, есть счастливая, карнавальная жизнь. Земной шар, конечно, в клеточку, но не в тюремную, а в шахматную, и любая проходная фигура может обернуться королевой, оказавшись на нужном поле. Ольга легко встала, подхватила пляжное полотенце и ловко запрыгала по камням, поднимаясь вверх, к отелю.
II
Весь мир собирается вечером у стойки бесплатного бара в отеле «Las Cristianos». Бармен с неприятным, бледно-желтого цвета лицом и дежурной улыбкой, похожей на оскал, не успевает отпускать напитки. Со всех сторон на ломаном английском заказывают виски, вино, колу, пиво. Отдыхающие предупредительно доброжелательны друг с другом, их тела помнят канарское солнце и пальмовую тень. Кажется, что время остановилось. Здесь всегда многолюдно, шумно; аниматоры устраивают фокусы и развлечения, караоке и танцы; старомодно-классически кружатся под музыку пожилые пары, трясется в экспрессивной дрожи молодежь.
Воздух острова напитан удовольствием – Ольга теперь это знает. День и ночь приезжие – немцы и итальянцы, французы и русские – что-то потребляют, покупают, поедают; разрушают, как полчища термитов, тысячи шведских столов, волей-неволей погружают свои тела в океан, судорожно набирают отдыха на уплаченную сумму. Но все же, гуляя по острову, Ольга научилась выделять из толпы соотечественников – что-то особенное было написано на русских лицах – непроходящая изумленность, удивление происходящим.
– Русская? – Ольга невольно вздрагивает и чуть ни проливает кофе на брюки. Рядом стоит высокий, точно сошедший с рекламной картинки, молодой мужчина. Он, конечно, тоже доброжелателен и улыбчив, как все обитатели волшебного острова. Здесь нет нищих и грабителей, все для удобства и удовольствия, все для счастливой и комфортной жизни… Ольга одна за низким журнальным столиком и незнакомец жестом просит разрешения присесть.
– Пожалуйста, – говорит Ольга. – Интересно, как вы догадались?
У него сильный акцент, он рассказывает с паузами, останавливаясь, чтобы подобрать нужные слова. «Я работаю с русскими семьями, вожу их на презентации в дорогие отели. Одна семья – сто долларов, – он хлопает себя по карманам джинсовой куртки, – здесь. Русские, русские… Что-то в глазах есть, правда? – он грозит пальцем, смеется. – Я из Хорватии, мама – красавица, славянка, – достает бумажник, где в полиэтиленовом окошке виднеется коричневое от времени фото – жених и невеста в виньетке-сердечке. – Папа – португалец, – незнакомец смеется, машет рукой, – нет папы, бежал. Зато он дал мне знаменитость-фамилию – Маркес, – он повторяет по слогам, – Мар-кес! Понимаешь? Я – Дамир Маркес. А ты?»
Ей нравится мягкое, глубокое кресло, нравится праздность, пряная испанская музыка, нравится Дамир – с профилем и сложением героя-любовника, с мужественным загаром, сквозь который на шее играют широкие мускулы; нравятся его глаза – неестественно голубые, как вода местных бассейнов. Она охотно отвечает, замечая, впрочем, что в интонациях, в голосе, во всех движениях у нее появляется что-то пластичное, зовущее, как бы расплавленное курортным солнцем. «Я похож на принца, да?» – смеется, склоняясь к ее уху Дамир, комично выговаривая слова. От него пахнет горьким одеколоном, дорогими сигаретами, южным ветром. Он, конечно, не принц, он – актер, играющий свою роль; действующее лицо «мыльных опер», бесконечных тянучек с красивыми страстями, мгновенно вспыхивающей любовью навеки и игрушечной, кукольной смертью. «Да, да, – соображает она, танцуя с Маркесом и пробиваясь смутной мыслью через подчиняющее ее телесное волнение, – все как в кино. Он – сильный и благородный, она – дикарка из России, золушка…»
– Выйдем? – шепчет ей Дамир, и она, удивляясь собственной беспечности, соглашается.
На улице особенно тихо после шумного бара, свежо. Он набрасывает ей на плечи свою джинсовую куртку, теплая ткань приятно согревает тело.
– Ты замужем? – он спрашивает серьезно, резко.
– Нет, – почему-то врет она.
Южное небо высоко стоит над океаном. Звездно, и кажется, что черные выси прибиты к куполу-невидимке золотыми гвоздями. Теплые скалы пахнут солью, грозно круглеют в ночи. Океан тихо плещется у ног.
– Послушай, – говорит Дамир, и ей кажется, что он взволнован. – Я люблю солнце! Тепло, легкую одежду, чистоту, фрукты, молодое вино. Солнце – везде. Здесь не бывает снега, дождь – редко. Здесь весело, приятно. Можно жить в купальниках. Не надо ничего стесняться. Остров – рай. Эдем. Все известно, спасительно. Надо быть счастливым и получать удовольствие, – он обнимает Ольгу умело и бережно. – Люди понравились друг другу – удовольствие… – он не смог подобрать подходящее слово, что-то пробормотал по-английски. – Женщины и мужчины созданы Богом, чтобы доставлять друг другу удовольствие, – убаюкивает он ее, – и сейчас мы будем вместе…
Но сквозь сладкую, чувственную тягу у нее в сознании вдруг всплывает навязчивая, часовая мелодия: «Динь-тинь. Динь-тинь». Ольге кажется, будто в эту самую секунду неведомая сила заводит механический остров-табакерку, где все игрушечное – не знающие грязи и поломок автомобильчики, белоснежные жилища, оплетенные плющами, синтетические человечки с хорошими фигурками и вечно улыбающимися ртами. И вот сейчас красотка-кукла Барби и ее дружок, супермен Кен, начнут совокупление на отдыхе, в романтичных бамбуковых зарослях.
– Мне пора в отель, – говорит она вслух и поражается хриплости своего голоса.
III
На следующее утро она пропустила завтрак, прячась в рваный, принужденный сон. Часам к одиннадцати она все-таки приподнялась на локте, увидела в зеркальных дверях опухшее некрасивое отражение, с ненавистью швырнула в него подушку.
Вчерашний вечер представлялся ей пошлой, давно отодвинутой во времени историей, случившейся не с ней. А раз так, то и думать было не о чем.
Ольга завернулась в одеяло, удобно устроилась в кресле напротив телевизора; перебирая кнопки пульта, она сквозь ресницы смотрела на чужую жизнь. По бесконечному телепотоку неслись новости, реклама, погода; люди старательно убивали друг друга в боевиках, они же веселились в шоу, давали интервью, блестя белыми, как керамика дорогих унитазов, зубами. Каналы невозможно было сосчитать: казалось, что зритель помещен в супермаркет-лабиринт; ведущие-зазывалы на всех европейских языках предлагали цивилизованному потребителю потратить время. Доверчивая жертва, окруженная броскими цветными упаковками, не уходила из «ящика» без покупки… Дубравина работала в отделе маркетинга и знала законы движения товара.
Вдруг она услышала родную речь. Ольга вздрогнула: телевизор громко и внятно произнес матерное слово. Она жадно впилась в экран – канал «Art» показывал русский документальный фильма о колонии малолетних преступников. Перевод был замедленным, несинхронным. Стриженый мальчик, похожий на червя, извиваясь и кривляясь, кричал ругательства в камеру.
Она всегда с брезгливостью относилась к так называемой «чернухе», к темным и жестоким мирам; избегала нищих; никогда, даже в детстве, не подбирала на улице бездомных котят. Но здесь, на Канарах, среди глянцевой, комфортной жизни, она с новой, незнакомой ей болью, с каким-то самоистязающим интересом, упорно всматривалась в изображение.
Фильм был намеренно груб, натуралистичен. Маленьких зэков сладострастно избивали воспитатели; старшие глумились над младшими, придумывая все новые и новые пытки; Ольгу ужасали крупные планы арестантов – бритые, узколобые головы; серые, почему-то безбровые лица с маленькими, заячьими глазками. Ей было особенно больно видеть татуировки на впалых, неразвитых грудных клетках, опущенных плечах. Дотошные журналисты жестоко, с хирургическим хладнокровием выворачивали напоказ смердящие раны колонистского существования: вот конопатый мальчишка, худой, с губастым, в заедах, ртом рассказывает, как глотал иголки, травился негашеной известью, чтобы попасть в больницу; вот общая сцена в столовой, смена голодно хлебает баланду из алюминиевых гнутых чашек; вот полосатые заключенные гуськом ползут в десятый уж, наверное, раз вокруг плаца, и видно, как отставшего, с клочковатой пеной на губах, татарина, подгоняя, пихает в бок форменный сапог надзирателя… Но она разревелась не от боли, которую ей причинял фильм, не от издевательств над арестантами, не от страха за их ночное, темное существование, а от жалости к ним, когда репортер стал комментировать убогие праздники заключенных. Мальчишки, неумело кривляясь, в самодельных балетных пачках, изображали на сцене «танец маленьких лебедей». И Ольге был невыносим вид полусогнутых, тюремно-белых ног, выделывающих примитивные па.
Она плакала истово, покаянно. О чем? Она и сама не знала – мысли ее мешались. Вся жизнь представлялась сейчас безответственной, легкой и фееричной, необязательной, незадумчивой и потому пропащей. Любила ли она своего мужа? Здесь, на острове, далеко от дома, ей казалось, что да. Ольга, всхлипывая, вспомнила его молчаливую покорность, уступчивость; все, что когда-то в нем раздражало, стало на мгновение дорогим, умильным. Как он радовался, гордился, покупая Ольге какую-нибудь красивую вещь! Она плакала, обвиняя себя в неблагодарности, глупости. А Сережа, сын? Дубравина разрыдалась от мысли, что до сих пор не вспомнила о нем, хотя, уезжая, оставила его с соплями и кашлем. Сердце ее сжалось. Она тихо поскуливала, проклиная свою беспечность, вчерашний вечер вырастал теперь до размеров вселенского, неокупного греха; ей чудилось, что сынишке угрожает смертельная опасность, гораздо большая, чем осложнение болезни; что-то горевое, непобедимое маячило в будущем, пугая ее расстроенное воображение. Колония для малолетних преступников, например.
Дикий материнский страх проснулся в ней. Мальчишки-зэки тоже когда-то были незлыми, шаловливыми, ласковыми малышами, как ее Сережа. Она видела себя одинокой, виноватой и беспомощной здесь, вдали от тех, кому была нужна. «Как жить? Что делать?» – твердила Ольга сквозь слезы, и оттого, что вопросы эти были чужими, усвоенными со школы формулами, и потому не выражающими глубины ее горя, она расстраивалась еще больше.
Когда она, наконец, успокоилась, умылась, густо напудрила лицо и спустилась в ресторан, глаза ее горели таким пронзительным и больным огнем, что со встречных лиц отдыхающих испуганно сходили доброжелательные улыбки.
IV
С этого времени ее жизнь на острове превратилась в доживание. Она исправно отбывала положенный срок, считая дни до даты чартерного рейса. Чувства ее как бы притупились, потеряли яркость. Ольга не ощущала вкуса экзотических блюд, не пьянела от вина, не могла определить температуру воды. Казалось, что тело превратилось в резиновую оболочку, автомобильную камеру, из которой сдут воздух.
Как-то в отеле появилась большая компания русских. Все они, судя по репликам, были служащими рекламно-туристического агентства и на острове снимали ролик о прелестях канарского отдыха. По вечерам соотечественники теснили иностранцев у стойки бесплатного бара; заводила компании – смазливый, не без шика одетый бабий угодник, пуками носил к сдвинутым столикам коктейли и водку; женщины, с жирно накрашенными, вампирскими губами, с огромными завитками кудрей, громко и пьяно выкрикивали тосты. Они походили на вырвавшихся на свободу продавщиц гастрономов. Вечерние платья, по-цирковому блестящие, придавали им комически-жалкий вид. Компания держалась сбитой, спаянной стаей, вела себя развязно, нахально, шокируя привыкших к условностям иностранцев. Но Дубравина, наблюдая за варварским поведением соотечественников, почему-то испытывала не только стыд, но и затаенную радость.
Теперь она часто, завернувшись в казенное полосатое полотенце, сидела на берегу океана и покачивалась в такт волнам. Ольга злорадно думала, что стоит океану захотеть, разбудить подземную вулканическую силу, и от острова останется горстка мусора на поверхности. Да, стоит захотеть… Она шаманно покачивалась, улыбалась, будто великанские силы были у нее в руках. Вспоминалась Москва, родной квадратик двора с мусорными контейнерами у подъезда, сам подъезд, где на входной двери на уровне глаз крупно чернело короткое и выразительное слово; уборщица в линялой спецовке и отвратительных резиновых перчатках до локтя. Уборщица мела по утрам собачьи нечистоты у подъезда и встречала жильцов безадресным горьким ругательством: «Сволочи, какие сволочи!» Жильцы виновато втягивали головы в плечи, но тишком все равно гадили…
В последний вечер на острове Ольга столкнулась в баре с хорватом. Маркес вел под руку длинноногую, длинноволосую девушку, грудь ее неестественно колыхалась под матовой блузкой. Она вся струилась, переливалась, играла гибким телом, благоухая веселым, доступным, здоровым желанием. Дамир что-то ей вдохновенно объяснял; Ольгу он, похоже, не заметил, не вспомнил. Лицо его выражало полное маленькое счастье.
…Соседом по самолету у Дубравиной оказался университетский преподаватель из Волгограда. На Канарах он отдыхал с женой. Сейчас она сидела через проход – важная, чопорная, в широкой норковой шубе, в высокой, под боярыню, меховой шапке. Лицо у нее было бледно-зеленое, цвета тетрадочных обложек – перелет давался тяжело. Преподаватель бегал к стюардессе, педантично менял жене пакетики, а в остальное время клеился к Ольге. Он перечислял страны и курорты, где ему довелось побывать. Ольга досадливо морщилась; все это время она с ужасом думала о том, что самолет не долетит, непременно разобьется; подглядывала в иллюминатор на бесстрастное тупое небо. Рассказчик ей мешал размышлять о близкой и неизбежной смерти. Когда он начал сравнивать пляжи Майями и Хургады, она повернулась к нему, и с ненавистью глядя в среднеинтеллектуальное лицо, украшенное очками, чеканно спросила:
– На какие средства катаемся? Взятки берем?
Когда она вышла из самолета, когда увидела пустое московское небо, голую взлетную полосу, оранжевый автобус-перевозчик с неисправной дверцей, небритого водителя в драной зимней шапке с отвернутыми ушами, то почувствовала не радость, не облегчение, не тишину, а лишь тяжелую, потливую, тропическую усталость.
Летним днем
I
Утром встанешь – росы блестят, свежо; солнце у горизонта в золоте плещется; в небе тишина, а по округе петухи последние поют, те, что свою очередь проспал. Думаешь: вот день, вот жизнь; уж я-то мир удивлю! А сорок лет прошло, и ничего нет – ни ума, ни денег, ни терпения. Так Нинка Зубова размышляла, вспоминая и утро, и жизнь свою. Ну, что капиталов не собрала – ладно; время сейчас такое, что богатства честностью не наживешь. И что красота прежняя отцвела (а Нинка внешности была выдающейся; роза и роза, но не деревенского, колхозного типа, а благородная, окультуренная; все ж таки мукомольный техникум за плечами) – годы идут, им по дури только Алка Пугачева сопротивляется. Но муж!.. И лентяй, и пьяница, и тупой, и ненавистный – Нинка вспоминала супруга и кипела. Вот уж точно: браки совершаются на небесах – ты хочешь возвыситься над природой, взорлить, а она тебя назад, назад, в беспросветные юдоли; и такую пару тебе подберет, что счастья не видать и бросить невозможно. Как жить, спрашивается, и что делать?!
Философствования эти посетили Зубову по пути из райцентра в деревню. Ехала она на попутном «Москвиче» к тетке Марии, крестной матери. Давно надо было ее проведать, да и гостинец забрать – ведро вишней, на компоты. «Своя машина в руинах, деньги выкинули, и скитайся по чужим кабинам», – муж был опять мысленно помянут и опять недобром. Попутка между тем ходко для ее возраста шла, исправно; дорога летела; по сторонам гнули шеи выгоревшие до серебра нивы – засушливый год; небо дразнило синевой – вроде бы наверху море не меряно, а уж воды-то, воды…
– А ты чья ж там будешь? – имея в виду Лазоревку, вступил с Нинкой в беседу хозяин «Москвича». Ему за шестьдесят, но здоровый, кряжистый, видно, что мужик, а не старик; нос большой, красный, в шишках; руки-хваталы руль крепко держат – сила; по щекам и подбородку небрежная щетина – презрение; в глазках утопших хитрость стынет. Едет семейно: на заднем сиденье жена царствует, сухая, гордая, платочек в повязочку, губки в строчку поджаты; в общем, карга. Но Нинка к людям, сделавшим ей одолжение, доброжелательна и приветлива – она подробно рассказывает.
Мужик оживляется:
– А я Марию знаю, – он начинает путано объяснять откуда, привлекая неизвестных Зубовой родственников – троюродных, четвероюродных – Нинка согласительно кивает головой, все ж дорога за разговором веселей; мужик продолжает расспрашивать:
– У Марии вроде Жорик помер?
Жорика, да, нету, царство небесное! Во мужик был! «Нина, – подмигивал он при встрече, – пошли выпьем, хоть чокнусь с молодой!» Пил все подряд в неограниченных количествах – самогонку, «бормотуху», водку, когда, может, и одеколон – алкоголиком все же не стал. Гулял напропалую – с приезжими молодыми чувашками, смирными, как телки; с лихими цыганками – чавеллами; просто по случаю, – но держался семьи: «Я умру геройски, родина наградит, ну дважды там или трижды Звезда Героя, а Марии – большая пенсия», – это он по пьянке, растрогавшись, объяснял подругам по загулу. Был Жорик высок, поджар, строен, завидной выправки («Полковник» – звали его в Лазоревке), но стать шла не от военной службы, а от породы да тюремных отсидок – то он подерется с большими телесными последствиями для противников, то магазин ночью тряхнет на предмет курева и алкоголя. Сидел и два, и четыре года; приходил заматеревшим, как волк-вожак после боев; снег-рубашка на три пуговки от ворота расстегнута, античная грудь в голубых наколках, расписана художественно; кудри в благородной седине; к женщинам – галантность; в глазах – издевка и романтика. Жорик – хозяин, возвращался, как он говорил, «из-за границы», сразу устраивался на работу – сторожить зерно, комбикорм. Ну, что-то, конечно, и колхозной скотине перепадало, но и свои свиньи имели рекордные по стране привесы.
Много раз крестная жаловалась на мужа, собиралась разводиться, гоняла его с любовницами по приречным тальникам, сама ходила с разноцветными синяками, попадая в раздраженное состояние супруга, но все же никто не думал, что жизнь Жорика обернется такой страшной смертью. Ловил в пруду рыбу, поймал ангину. Такую, что на ноги не встать. Свезли в районную больницу, вгляделись – рак гортани. За месяц человек истаял, усох до мощей, кудри вмиг белыми стали, говорить не мог, только смотрел. Глаза страдали. Вишневые очи. Жил как хотел, грешно, широко, разгульно, а умирать час пришел – взгляд иконный. Видно прощение всем будет, а мучений – никому не избежать…
– Прошлым летом дядя Жора умер, – вздыхает Нинка, – жалко его. Даже не верится, зайду – двор пустой.
– Ну, передавай тетке привет, – наказывает водитель. – Ты поняла от кого? Скажешь: от Николая, что на Плану жил. Или по-простому: от Прохоренка сына. Подожди, а ты когда назад? Часа через полтора? Так я тоже, Наташку брошу у тестя, – кивает он на бессловесную жену, – и домой. Не, под дорогу не выходи, – грубо наказывает он Нинке, – я сам к двору подскочу. Заберу уж, ладно…
II
Двор у крестной – зона былого хозяйственного благополучия. Жорик, насидевшись в нормированных пространствах, любил порядок. Чтобы трава на квадратной площадке перед домом была как футбольный газон, чтобы куры по просторным клетям квохтали и не пачкали территорию, чтобы яблони и прочие культуры по шнурку росли, без вольных отступлений. Увидит Жорик во дворе оставленный хозяйкой не у места предмет – щетку для побелки стен, например, хвать его, и не успеет Мария рот открыть, вещица уже летит в космос, за ворота, на выгон, метров на пятьдесят. И все было: дом как игрушечка, мухи над навозной кучей не кружились, и огород – показательное хозяйство. А нынче – Нинка грустно заметила следы упадка – сизая лебеда по углам двор глушит, а скосить – некому.
– Да они гости! – ахает на появление крестницы тетка, – а я слышу, кто-то в сенцы лезет, думаю, небось Симкина собака отвязалась!
И Симка тут, соседка, давно одинокая бабенка, легкая на ногу, певунья, характера, правда, сварливого; а муж умер от пьянки годов десять назад. Сидят в зале, густо устланным домоткаными половиками; по стенам малые и большие портреты с родней, полутьма от прикрытых ставень, холодок.
– Воскресенье, так мы собрались побрехать, – объясняет крестная обстановку, – чи ее, эту работу, всю переделаешь!
Нинка подстраивается, включается в разговор. Ну, слово за слово, про городских родственников, про то, что корова отелилась (а переходила сильно!), что урожай вишней – «было бы не так жарко, лезь на дерево, да рви еще»; в конце концов гостья вспоминает о Прохоренке и его привете.
– Да ты че! – изумляется крестная. – Прямо при жене и сказал? Мол, «привет Марии»? Девки! Он ведь мой жених! Был. Симк, ты помнишь его? В 56-м году гуляли вместе, он свататься собирался. Давно я его, – Мария задумывается, – не помню уж сколько лет не видала; к тестю редко ездит, не заладили. Там он страшный небось? – с радостной утвердительностью спрашивает она у гостьи.
Нинка смеется:
– Скоро увидите! – и объясняет, что Прохоренок заедет за ней на обратном пути.
Тетка Мария остолбенело думает над новостью секунд двадцать, не боле:
– Бабы? А че мы дремлем?! Нынче воскресенье, праздник, крестница в гостях, давайте сядем! Симка, зови Шураню, бутылка у меня есть, закуски наберем!
Симку уговаривать не надо, подхватилась, только тапки замелькали. И смех, и грех: Зубова свою крестную в таком возвышающем возбуждении раз или два в жизни видела – когда та рассказывала, как за Жориковой чувашкой на велосипеде гонялась, да на вручении ей премии в районе за передовую прополку свеклы. Мария, женщина хоть и в годах, на пенсии, но в возрасте своем красавица, росту выше среднего, грудь, плечи, все округло, опрятно, голова с тяжелыми волосами прибрана как у артистки, черты лица определенные – много пережила; глаза вечно волоокие; а сегодня взгляд скачет, блестящий, молодой, и сама она по хате летает – не остановишь. «Вот черти старые, – с уважением думает Нинка, – они и в семьдесят лет беситься будут». Тетка тем временем из шифоньера новую скатерть, старую долой, на стол из холодильника, из погреба продукт – холодец, сало, котлеты, перцы в поллитровых банках с прошлого года, закуски, яичницу бегом жарить с луком; огурцы малосольные из ведра обливного; сметана, творог само собой; хлеб домашней выпечки щедрыми ломтями пластает; и чеснок молодой, матовые зубки, чтобы самогоновый запах отбивать. Поллитра из погреба – в паутине, бутылку Нинка протерла влажной тряпкой, она аж засветилась вся! Тут бабы прибежали – тоже не с пустыми руками – Шураня с четверкой «Русской», Симка с котелкой покупной колбасы; стол весь заставили чашками, тарелками, судками, от одного вида изобилия можно опьянеть, на свадьбах такого не увидишь: «ну, крестная», – удивляется Нинка.
Сели. Тетка, правда, опять спохватилась, мол, подождите минутку – и в комнаты. Вышла принаряженная – юбка на ней черная плиссированная («дочь подарила, она ее одевала, может, раза три-четыре») и кофта белая, вся бисером расшитая. Ну и ну! Точно, будет и на нашей улице праздник. Выпили по первой, закусили и как-то сплотились, зароднели, разговоры пошли; потом еще добавили. Недоверчивая Шураня, губошлепая баба-телеграф, все новости от нее по Лазоревке расходятся, спрашивает:
– Че гуляем-то?
– А, – машет чуть захмелевшая тетка Мария, – я вдова и живу на полную катушку!
Много ли бабам надо? Языки развязались, пошла разноголосица: кто про внуков, кто про пенсии, кто про болезни и врачей. Про последнее особенно – каждая перенесла по хирургической операции, кому зоб вырезали, кому желчный пузырь, кому по-женски, в общем, есть что вспомнить. Пир горой, Нинка уже и забыла про хозяина «Москвича». А он тут как тут:
– Можно к вам?
Стоит в дверях, фуражку мнет. У мужиков спеси много, и силы, и дурости, но против компании подгулявших баб один в поле не воин. Смутился жених. А Мария от стола медово:
– Коля, проходи, присаживайся. Может, выпьешь чуть? За рулем вроде много нельзя.
Прохоренок каменеет на табуретке, бугаино кривит толстую бурую шею, не шею даже, холку. Беседа идет с шутками, прибаутками, и гость, чувствуя ложность своего положения, вступает мало и невпопад. Будто он лишний здесь, в бабьем царстве; пущен из милости, и его сочувствие, интерес или забота и не нужны вовсе. Неловкость длится – Нинка чувствует, а крестная вроде ничего и не замечает: хвастает, как зять здорово помогает («и трубы под газ достал, и котел из города привез»), и какая картошка в этом году будет хорошая – цветет страсть; и что гектар свеклы за сахар прополола; в общем, полный триумф! А с портрета, с карточки увеличенной, Жорик улыбается молодой – чуб кудрявый, кольцами; глаза черные, веселые; воротничок рубашки чайкой летит; что было, то было – жизнь не пережить, поле – не переплыть…
– Ехать надо, – говорит Нинка, вынырнув на мгновение из голубого, качающего тумана.
III
– Мария, а че он к тебе приходил? – заговорщицки пододвигается к подруге Шураня. Нижняя губа от любопытства у нее немного отвисает, вроде как у Симкиной собаки перед куском мяса.
– Свататься! – прыскает смешливая Симка, приправляя холодец хреном, – опоздал на сорок лет, старый хрыч.
– Зашел и зашел, – встряхивает головой хозяйка. И подмигивает разгульно, берясь за бутылку:
– Допьем, девки, горькую. До дна допьем!
…Нинка с Прохоренком молча ехали, быстро. Зубова смотрела в злящийся затылок, терла виски – самогон забористый, первач. Она трезвела трудно, мысли – длинные и короткие – мешались; она пыталась умостить их в голове, сложить во что-то вроде поленницы, но всякий раз построение падало, и Нинка барахталась в хаосе. Есть жизнь… Есть судьба… И вишни, сочные, в эмалированном ведре – надо бы его обвязать, чтобы не рассыпались… И просторы есть, неохватные, текущие теплым воздухом за горизонт, и кто ты перед ними?! Букашка трудолюбивая, зерно из колоса или камешек на обочине? Все есть, все пройдет – Нинка почти плакала. Дети вырастут, не оглянутся; муж сопьется и присмиреет; тело занеможит и запросит смерти; буду бабушкой ходить с палочкой… «Москвич» мчался на закат. Алое марево стояло в небе зарей, розовые нивы волнились по обе стороны асфальта; солнце, ничуть не утомленное очередным летним днем, светило пронзительно. И вся небесная, независимая от жизни и поступков людей, красота показалась Зубовой такой мудрой и высокой, что она не могла уже ни думать, ни страдать, ни мучиться, а лишь спокойно и устало смотрела на бегущую к далекой черте дорогу…
Дерево
Дерево, как и человек, не помнит своего рождения.
Была весна, летели птицы, шли облака, стояли снега, пахло землей.
– Знаешь, – говорил мне дядя Федор Иванович, – приезжаю сюда раз в год, на Пасху. Ну, могилки оправить, все, как положено. И ведь не из-за могилок, сукин сын, еду /дядя уже порядочно выпил и рассказывал всхлипывая/. Весной дурею совсем – тянет понюхать землю, чернозем наш. Запах зовет страшно, голова кружится. Маша / жена/ пихает пилюли, говорит, что авитаминоз. Фармацефтка! Слушай, какой к … / дядя интимно, доверительно, словно к другу, склоняется ко мне и вставляет в рассказ крепкое словцо/ авитаминоз?! Я же мальчишкой бегал, помню грязь теплую, борозду, земля – жир; семена – ячмень там, пшеница… Нет, ты понимаешь? – дядя крепко вцепляется мне в плечо и продолжает со слезой в голосе, вкусно дыша водкой, – сынов у меня нету, дом продал на бревна, живу с Машей… Имею ли я право раз в год приехать, походить по своей земле, а? – агрессивно возбуждается Федор Иванович. Беседа наша становится все более путаной, дядя пьет уже не закусывая, и в конце концов забывается прямо за столом буйным, со всхрапами и злым бормотаньем, сном.
Да, была весна… Я представляю: проклюнулся росток, огляделся, увидел – летят птицы, идут облака, стоит солнце. В детстве как-то мало думаешь о земле, о ее холмах, долинах, извивах, горизонтах. Тянет к небу, к растекающимся, непрорисованным весенним краскам. Бывают туманные тучи – самые загадочные, когда небесная жизнь кажется мнимо доступной – за серыми густыми кудрями вот-вот откроется лицо иного мира. Но нет, назавтра лишь грустная синь, перистая холодность да земные, низко парящие птицы. А у чернозема – цвет вороньего крыла, и к осени пашни, точно набравшее силу перо, начинает отливать синевой.
И вот дерево, деревце, родилось, росло год за годом, трепыхалось под ветром, не думая, сосало корнями земную силу, купало редкие, кокетливо-липкие по весне листья под дрожкими, бодрящими дождями. Что-то и я, конечно, начинала чувствовать, пусть и не так пронзительно, как дядя Федор Иванович. Молодая трава-мурава выходила из черной, блестящей, обильно напитанной влагой земли совершенно зеленой, и этот радостный, живой цвет разительно не соответствовал моим детским представлениям. Я грустно жевала молодую мураву, пытаясь разгадать тайну через вкус, обиженно сплевывала горечь. Пахло коровой, раскиданным по огороду навозом, яблоневой корой, силосом из ржавого корыта, теплым камнем колодца-журавля, и тонко, как я сказала бы сейчас, благородно, пахло весенней землей. Свежесть – вечный запах жизни, и человеческое стремление к чистоте – вечная честность. Если отбросить родственные пристрастия, дядя Федор Иванович совсем не честных правил, и в каждый свой приезд напивается у меня до безобразия, но краска на родительских крестах у него свежая, ликующая. / Дядя обычно выбирает светло-голубые цвета./ Летят, летят в небо кресты, и клонятся над ними мудрые кладбищенские дерева.
А мое дерево тем временем сильнело, развивало выровнявшийся ствол, густило новыми ветками крону, и бывало, что качались в листве галки; растрепанные, будто из драк, вороны. Почему-то вспомнилось мне сейчас прошлое, маленький, пыльный городишко. Оттого, что городишко был крохотный, что почти весь он был застроен частным сектором, что все улицы в нем были неглавные и тихие, и редко по ним проезжали машины, трактора, колхозные телеги, от всего этого становилось еще пыльней. Неизменно свежими казались только поставленные в окошках между рамами искусственные цветки, да миниатюрные палисаднички у домов, где хозяйки настойчиво пытались взрастить красоту.
И вот в конце одной из неглавных улиц стоял широкий двухэтажный дом с плоской крышей. Издалека он сильно напоминал увеличенную до невозможных размеров коробку из-под сапог. Стены здания были серые, цвета упаковочной бумаги. В доме размещался интернат. Здесь я доучивалась два последних школьных года.
Стояла июньская жара, шли выпускные экзамены, и мы со Славой Левченко сидели в спальном отделении на подоконнике второго этажа / за что всегда ругались воспитатели/. Окно, широкое, с тусклым от времени стеклом, со слоящейся краской на рамах, было распахнуто. Дерево, что росло у самой стены интерната, в тот год уже лезло в окно ветками, и директор наш, вечно испуганный глобальными хозяйственно-духовными проблемами, ничуть и не пытался ограничить его свободу. Помню дробящееся в кроне на тысячу бликов, ликующее солнце, блеск здоровой листвы, упругой, сильной; решетчатую, ажурную тень.
– Хорошее дерево, да? – говорил Слава, чуть притягивая к себе гибкую ветку.