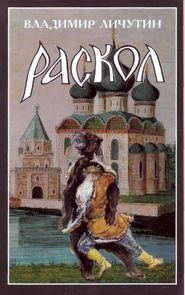скачать книгу бесплатно
И тут, пока расчухивались, полагаясь друг на дружку, ведь во всяком деле есть первостатейные зачинщики, из-за государевой спины выдвинулся князь Гундоров, отбил земной поклон, объявил твердо: «Дозволь ратиться, государь». В его руках откуда-то взялись круторогие вилы, влажное ратовище лимонно желтело. И всяк в эту минуту, кто воззрился с удивлением на князя, подумал, наверное: да куда ты лезешь, милый? С лоскутом да к целой шубе примериваешься. И то сказать, не особенно видок и плечист князь: сухой, тонкий, что виноградная лоза, нос ятаганом над тонкой струйкой усов, и толстые черные брови над жаркими глазами, что медведи, лежат. Гундорову царь мирволил, не раз прислуживал тот за трапезой, но больно горяч стольник и обидчив; скажи слово не в масть, так и губа на локоть. Царь благосклонно кивнул, ничего не сказал, и князь по-кошачьи соскочил с тына в набухший песок, слегка увязив сапоги с короткими широкими голенищами. Медведь, вихляющий по кругу, оторопел от подобной наглости, по-собачьи осел на гузно. И тут снова наддали ему пикою в зашеек, проточили шкуру.
В загоне князь казался вовсе мал и неказист, он отпрянул, прижался к бревенчатому тыну, и на походной куртке отпечатался мокрый след. Михайло иваныч взревел, что твоя иерихонская труба, и тут у всякого поединщика, не рохли, не робкого десятка, дрогнули бы, подсеклись коленки. Шерсть поднялась на загривке, в черных морщинистых загубьях запузырилась желтая пена. Медведь оскалился злобно, остервенился, верхняя губа задралась, обнажив белесые, припухшие с зимы десны с притуплёнными клыками. Травили хозяина, подтыкали пиками враги недосягаемые, изнуряли его гордоватую натуру, доводя до исступления, и вот мучитель, наконец, напротив, лишь стоит взняться на задние лапы и приобнять тварь беспечную, легким ласкающим замахом стянуть кожу с головы на глаза. И пест встал на ноги, гора горою, как нездешний циклоп, продавливая ступнями набухший водою песок, оставляя на нем великаньи человечьи следы. Гундоров перехватил ловчее вилы наперевес, по-кошачьи легко отпрянул от стены, лишившись последней укрепы.
Он обернулся, и государь увидел на его лице застывшую усмешку. Азартное дело – медвежьи бои, но тут вся надея лишь на себя да на участливость Господа, на ангела своего. На охе да на ахе далеко не уедешь. И потому на обломе воцарилось гробовое молчание, чтобы резким возгласом иль напрасным шевелением и пустой говорей не отвлечь бойца, ибо у дерзкого, что решился на рать, вся жизнь позади. Любимко даже кафтан расстегнул, взопрел разом; мокрая, лоснящаяся от дождя выя бурым окомелком из круглого ворота тельной рубахи; овчинную скуфейку в кулаке замял, торчит наружу заячьим ухом. Подумал Любимко, жалеючи князя: эх, сторублевая голова за грош пропадает. Слетит бошка, как репка. Уж больно жалок повиделся боец. Небось побился втихую со стольниками об заклад, позабыл, торопыга, что споруйся до слез, а об заклад не бейся…
У государя пальцы сжались на поручах креслица, аж побелели козанки, лицо сбледнело, потеряло румянец, как бы покрылось легкой изморозью. Эк, христовенький, так люто искручивают твое сердце сладкие забавы, что и Божьи заповеди долой, за-ради вот этого минутного счастия, и тогда все тайное, ухороненное в сердечных скрадках от стороннего любопытства, оказывается наруже и в этих шально искривленных губах, и в слюдяной поволоке, затмившей глаза. Царь каждый шаг мысленно повторял, вроде бы сам ратился: эх, кабы не государева шапка, то быть бы Алексею Михайловичу в зверовщиках, видит Бог.
Медведь надвигался на Гундорова, собою застилая небо, а князь стоял вроде бы в нерешительности, словно бы, покорясь, ожидал своей участи; но то, с каким хладнокровием он встречал мохнача – не ерзая, не вскидывая голову, но по-рысьи утянув ее в плечи, и смоляная густая волосня поднялась копешкою, – выказывало в стольнике бойца умелого. Хозяин уже завис с утробным рыком, широко распахивая лапы, когда Гундоров шагнул прямо в объятия, вонзил вилы в подреберье, в самый дых, и, подсадив зверя, ловко воткнул конец ратовища в песок. Лесной черт, нарвавшись на вилы, страшно так заверещал с подвизгом и хрипом, оседая тяжким туловом на рога, роняя из пасти сукровицу; он молотил лапами воздух, пытаясь достать князя, и вдруг ударил лапою по держаку, ратовище лопнуло, переломилось, как соломинка. Но князь не сробел, выхватил нож, воткнул в шерстяные мяса, а отскочить не успел, подвел под сапогом вязкий наводяневший песок. И бедный боец тут же исчез, провалился под лешачину, как в черный омут, принакрылся плотно звериным телом. Вздох прошел по облому. И хотя ловчие и псари были наготове с рогатинами, но всяк ловил взглядом государеву волю. На службе ведь так: слову – вера, хлебу – мера, деньгам – счет. Царь же, слегка помутнев головою, остеклянившись завороженными глазами, безмолвствовал, не сводя напряженного улыбчивого взора с лесного хозяина, загребающего под себя несчастного. По песку расплывалось ржавое рудяное пятно.
И-эх!.. Села курица на тухлые яйца.
Тут показалась белая, как обветренная кость, уже растелешенная рука Гундорова. И чей-то голос явственно сказал сзади: твой день, Любимко, не празднуй труса. И поддатень, еще с вечера битый за самовольство, уже позабыв науку, махнул с тына вниз, в два добрых прыжка одолел песчаную кулижку, оседлал медведя, как уросливого жеребца, и, схватив одной рукою за носырю, другою обвил шею и заломил зверю башку.
Мохнач, забыв от боли несчастную жертву свою, и сделал-то лишь шаг-другой, и тут хрустнули шейные позвонки, и медведь рухнул на передние коленки. Поддатень выхватил нож и словно бы вбил с замаху длинное лезо под лопатку; кровь ударила горячей струею и оросила лицо, и шею, и холщовую срачицу охотника. Тут с облома поспешили служивые, подхватили ошалелого князя, поволокли на волчий двор, позабыв Любимку, не смея приблизиться к распластанному медведю, вроде бы уснувшему на песке. Любимко одиноко стоял подле песта, ошарашась, и вытирал окровавленные липкие ладони о кафтан; ныло потянутое плечо, кожа на пальцах висела лафтаками. Он стоял, не смея поднять взгляда, дрожа от внутреннего озноба. С облома вдруг рыкнул Парфентий Табалин, жалея дурака: пади на колени, балда, проси милости, неслух.
Государь молчал, вперившись взглядом в самовольника, и не мог расцепить пальцы с подлокотников. Какая-то дурнота вдруг приключилась с ним, и не от потехи даже, но от сердечного напряга, от неминучей беды, коей страшился и ждал; подчеревные колики поднялись в грудину, перехватили дыхание. Царь пережидал неожиданную боль и отстранение дивился могучести поединщика, его простодушному, почти детскому лицу с мягким, полупрозрачным каракулем невесомой бородки, с кровавым сеевом по щекам и в подусьях, где не наросло пока шерсти. И глазки занимали царя, крохотные, свинцовые, медвежеватые, с тонкой розовой каймою, словно бы плоть и дух лесного черта переселились невидимо в поддатня. Да и сапоги-то у служивого были куда крупнее медвежьей лапы, а икры, так тесно, распирали широченные голенища. Эку вараку, эку живую гору мясов народила земля, восхитился царь, не показывая виду. Взял да и сломил песту голову, как мокрой курице.
Боль отпустила, покой снизошел на душу, и государево лицо призамглилось румянцем. И служивые на обломе каким-то неисповедимым образом услышали перемену в царе и возвеселились, понимая, что гроза обошла стороною, загомонили, радые счастливому исходу, завопили Любимке, не таясь: «Пади, леший тебя понеси! Пади, иль сломят, дурило!» Любимко же лишь шагнул к цареву месту и приспустил, набычась, голову, переминался, отмякая бугристыми плечами, будто под сермягою было толсто набито хлопковой бумагой.
«Подымись», – сурово велел государь. Любимко взошел на мост, чая худа. Но он не слышал за собою вины. Голоса потешников доносились издалека, как накат морской волны.
«Ты что, страха не ведаешь, ослушник?» – спросил хрипло государь и вдруг поднялся с креслица и неожиданно примерился для любопытства: даже оставаясь на приступке, он только-только доставал головою бороды поддатня, хотя и сам-то Алексей Михайлович был росту середняго. Царь уставил взор, как бы изучая поддатня, вроде бы наискивая слабину: лицо служивого, орошенное кровью, было в мелких ржавых конопинках, а от всей стати веяло на государя несокрушимым здоровьем и чистотою. Любимко смутился, но взглянул на государя пристально и смело: в крохотных озеночках, опушенных частыми черными ресничками, не было дерзости.
«Чего бояться-то, государь? Все под Богом ходим, – сказал Любимко твердо и вдруг рассиялся взглядом: – Однова помирать-то».
«Пойдешь ко мне в стремянные?..»
«Твоя воля, государь…»
После потехи угощал Алексей Михайлович в Столовой палатке водкой, медом, пряниками, астраханским виноградом и маринованными вишнями. У князя Гундорова лицо было в спекшихся рваных язвах, изъеденная рука на перевязи. Он угрюмо супился с краю стола, а напившись, вдруг подскочил к спасителю своему и мстительно закричал, брызжа слюною: «Зачем лез, ты скажи, а? Кто тебя звал, а? Ты вор, вор ты, б… сын!»
Вопил князь Гундоров на служивого выскочку и не ведал еще, не слышал душою, что вскоре сойдет он по кругу вниз, как ярыжка Пожарский, а спившись, заживо сгорит в кабаке.
Через неделю после большой дворцовой охоты привели Любимку к присяге. Пред всеми стремянными и дворными конюхами, сторожами и стряпчими поклялся он на крестоцеловальной записи: «А что пожаловал государь-царь быти на своей государевой конюшне и в стремянных конюхах и мне государево здоровье во всем оберегати, и зелья, и коренья лихого в их государские седла, и в узды, и в войлоки, и в рукавки, и в наузы, и в кутазы, и в возки, и в сани, и в полсть санную, и в ковер, и в попонку, и во всякой их государской конюшенной наряд, и в гриву, и в хвост у аргамака, и у коня, и у мерина, и у иноходца самому не положите и мимо себя никому положите не велети…»
Да еще сшили Любиму кафтан киндячный на русаках, а на кафтан тот пошло киндяку зеленого восемь аршин, да пятнадцать хребтов русачьих, да мех русачий в тридцать алтын, а на опушку да ожерелье положили пуху на двадцать алтын.
Да отпустили стремянного конюха в гулящую на двадцать ден. Кабы был Любим соколом, то слетал бы в неизреченные родимые места к отцу-матери и голубеюшке Олисаве. А иначе по-иному никак не поспеть.
Часть четвертая
Симоне, Симоне, се сатана просит вас, дабы сеял, яко пшеницу…
Глава первая
Оле-е!.. Юродивый Христа ради не оставляет по себе следов вещных: он похож на ровный, безмятежный весенний дождь, что засевает роженицу мать-землю; иссяк, изжился жертвенно, но в воздухе-то благодать, кою может испить всяк страждущий. Юрод – это странник по душам смиренных овчей и метит их тяжким своим уроком, стараясь повторить страдательный путь Спасителя, а грудь свою отворяя для любви: «Все приидите, все напитайтеся».
Священницы, служители дома Исусова, ревностные стяжатели веры, не ропщите на странника, на убогость его, не сейте шипов на его тропе, не хулите ту неподъемную ношу, что взвалил на свои рамена христовенький, ради спасения вашего внутреннего ветхого человека, чтобы муками своими приоткрыть и для вас врата небесные. Не кляните блаженного, ибо то зависть в вас ропщет, распалившаяся, как костров уголье, то бесы точат ваше гордомыслие, умасливая проказы елеем видимой доброты. Веруйте, что жизнь подвижническая – это цветник церкви, ее благоухающая роза, ее свеща негасимая, издали видимая безыскусственному верующему сердцу из самой-то гнетущей завирухи; это трепетный, такой вроде бы бессилый огонек елейницы, неподвластный ханжам, и арбуям, и насыльщикам скверны, рядящимся в плащи пастырей и ревнителей церкви, но уже порченных изнутри шатанием, готовых переменить ее. Юрод не перехватывает славы церкви, ее видимых прелестей, не подтачивает ее благодати и тайное не огрубляет, не делает явным. Но вглядитесь с трепетом благоговейным, как через грады и веси, покрытый в монашеский куколь иль в прохудившиеся лохмотья, сквозь которые светится измозглое тело, а то и вовсе наг, опоясанный гремящими цепями, как змеями, он приближается к вам с протянутой ладонью не как прошак, но пророк и вещатель, и там, в заскорбелой от грязи, в струпьях и язвах горсти меж черствых крох колобов и шанег струит, переливается, как драгоценный смарагд, неиссыхаемая Христова слеза. Взгляните в очи его омрелые, в розовой бахроме от бесконечных скитаний, и в их белесой мути, присыпанной тленом и прахом, обнаружится смысл вашего короткого быванья, и вы вдруг поймете всю тщету земных усилий, и невольно склоните долу покорную главу свою, замгнете очи и с дрожью сердечной станете ждать его слов, его скрипучего гарчавого голоса, отворяющего самое тайное, сокровенное вместилище греха.
Чуете-нет, людишки черные, кашеи и смерды, казаки и бобыли, яко черви, денно и нощно, ради куска насущного страдающие на пашне и в хламе забот вседневных едва хранящие свет небесный, как через хлебное жнивье меж суслонов, овеянных житным запахом, не накалывая о иглистую стерню босых обугленных ног, из дальнего поморья попадает к вам неспешно новый юрод Феодор Мезенец, а молва о его чудотворной силе далеко поперед бежит. Не страха ради, но для спасения заленивевшей души остерегает странник беспечных, убивающих в себе Господа: «Антихрист прииде ко вратам двора, и народилось выб… его полная поднебесная. И в нашей Русской земле обретется большой черт, ему же мера высоты и глубины – ад преглубокий. Помышляю, яко во аде стоя, главою и до облак достанет. Внимайте и разумейте вси послушающии…»
Феодор уже перемог зиму, идя о край Двины, босой, в ветхой хламиде, с чугунным крестом на впалой груди. И вот он придвинулся к Устюгу Великому, где блажат испокон Прокопию юродивому, что вел житие жестокое, с каким не могли сравниться самые суровые монашеские подвиги. Всяк сызмала хранил его пророчества и передавал по памяти и роду, как редкую святыню. Однажды Прокопий, войдя в церковь, возвестил народу Божий гнев на град Устюг, де, за беззаконные дела злы погибнет этот вертеп от огня и воды. Но никто не поверил, не послушал призывов юродивого к покаянию, и Прокопий один целыми днями плакал на паперти, вымаливая у Господа прощения заблудшим овчам. И однажды страшная туча нашла на город, земля сотряслася окрест, и в ужасе побежали православные в церковь, где плакал Прокопий, и с молитвами пали ниц пред иконою Богородицы, чтобы Царица Небесная отвратила Божий гнев. И каменный град обошел Устюг стороною, но осыпался с небес в двадцати поприщах от него. И вот поныне лежит каменье, как страшный небесный посев, а лес повыбит и посечен на многих десятинах. И как тут не поверить блаженному Феодору, его зрячему сердцу, что и время-то пронизает сквозь. Ибо ступает-то он след в след Прокопию чудотворящему, этой святой иконе Устюжской, словно бы и не истирались они на сырой земле-матери…
И где бы ни останавливался Феодор – корочку хлеба позобать, иль для ночного приюту, иль для молитвенного поклону у придорожной часовенки, иль у поклонного креста для умиленного плача, – там и принимался благовествовать, вроде бы безотзывчиво вперясь в небесную ли пустоту, иль на лайды, полные весеннего прыска, иль в косогор речной, уже полыхающий желто от иван-мачехи. И тут народ стекался как бы ниоткуда: из хиж, и банек, и бугров рыбацких, и купецких лавок, и от ремественных горнов…
«Церковь бо не стены церковные, но законы церковные, – стенал юрод. – Егда бегаеши в церкву, не к месту бегаеши, но к совету: церковь бо не стены, а покров, вера и житие. И как не восплакать, увы, нам, коли некуда притечь к совету: кровля та поиструхла, а стулцы произгрызены червями, и в алтаре, и в горнем месте, и под престолом свили себе гнездо змеи сатанаиловы. Какого же совету сыщешь тамо, глядючи в те еретические иконы, натяпанные мерзким богомазом, ежли в каждом окне улыскаются бесовские рожи. Братцы мои христовенькие, убоитеся же суда Господеви, что грядет с часу на час… Иоанн Златоуст сказывал, де, приидет антихрист в северной стране, зовомой Скифополь, и стекутся сюда еретики со всех сторон, и выше земли сокровенной под самое небушко вздымут они чернца, и многие души тогда прельстит он и погубит. Скифополь! не наша ли то Руськая земля? И чернец-антихрист не патриарх ли московский Никон, пришедший не вем откуда и стан себе воздвигающий, зовомый новым Иерусалимом? И заповедаю вам пугатися тех церквей пуще скимена рыкающего, а иконы прельстительные кидайте в огнь и пепел срывайте в ямы на сажень вглубь, чтобы не проросли плевелы, иначе от скверны тех образов в гортань вашу вползут червие и поначалу поедят сердце, а после погрызут и самого Христа…»
Охти мне! – всплеснет ладонцами изжившаяся старушишка, и червие, изгрызающее нутро ее, вдруг увидит въяве, и поспешит сердешная в подворье свое, где на притолоке давно излажен и домок, и крест вековечный из листвяги с изузоренной титлою «ИХ СБ», и станет стенать она и просить Спасителя, чтоб призвал к себе в свои благоухающие сады под ангельское крыло, пока не явился в мир окрещивать наново неведомый черт, головою возросший под облака. И укладется молитвенница наша в домовинку, и ручонки тряпошные скрестит, и в холодеющие персты свечу воткнет, не чуя боли от горячего воска, и, смежив очи, сама себе воспоет псалмы, слыша, как ласковой рукою прибирает ее Господь. Но, отлежавши и день, и другой, и третий, не выдержит страстотерпица наша монашеского подвига и, оставив гробок свой, побежит к соседушке-печищанке, чтобы поделиться нежданной скорбью, узнанной от нездешнего юродивого, вещающего о погибели Руси. А та, напуганная вестью, прикажет хозяину своему живо запрягать лошаденку и потащится в недальний выселок к сватье на гоститву, и за привальной трапезой порасскажет о новом чуде. И так, из уха в ухо, из губ в губы, все Поморие узнает горестную весть о кончине сего века: и не ямщицкие тройки ее разнесут от яма к яму, не почтовый голубь, не царский бирюч и не воеводский пристав, но сам русинский воздух вроде бы наполнится тем слухом…
И пугаясь пуще всего скверны еретической, и нового вертепа, и посылки бесовской по ветру, когда лишь взгляд на кощунную церкву, отрекшуюся от старинного креста, невольно испротачивает и душу, устрашенный поселянин примется спасать себя сам, в своем лишь сердце ухичивая и обихаживая собственного Бога. И вот одни на воду веруют: соберутся в избе, поставят чан с водою и ждут, доколе вода не замутится. Другие девку нагую в подполе запирают, да потом и кланяются ей, как Богородице. Третьи говорят: «не согрешивший спасенья не имат» – и стараются грешить, чтобы после отмаливать. Есть и такие, что голодом себя замаривают. А то и молятся дыре в стене, вынув из нее пятник, иль старой березе в лесу, иль пню смолевому, иль Христу, сошедшему с небес и воплощенному в однодеревенце, иль Духу Небесному, иль кресту пятиконечному разбойничьему. Эх… стоит лишь однажды скользнуть вниз с пути истинной веры, подвергнуть осмеянию лишь одну-единственную букву «азъ» – и того пути вниз с ледяной горы в самую пасть дьявола ничем не остановить. И вот уже новые псалтири и часовники, разосланные по церквам Никоном, преданы анафеме, и всяк по своему уму из ветхих писаний составляет свой «цветничок» покаянных молитв и, где-нибудь заблудившись в таежной кулижке и вырыв там нору, тянет спасительный канон. И разбрелись по Сосьве, и Лупье, и Колве, и Суне, по Керженцу и по Выгу смятенные люди душу свою сохранять от погибели. Говорят: де, нынче и в пещерицах обитают пустынники, верша подвиг: в одной из таких печур денно и нощно свеща горит, а чьей рукой возжигается, то лишь Богу ведомо. В этих скрытнях люди без одежды ходят, питаются травами и промеж собой не общаются…
Дал гранит веры паутинные трещины, и туда проточилась влага сомнений и гибельный ветер гордыни, когда всяк захотел своим умом прожить и по-своему прочесть Священное Писание. Давно ли Никон воссел на патриаршью стулку, а уж заклубился по Руси вихорь, и в тот клуб дымящийся, как листьев по осени, много закрутило православных душ, коим, пусть и безгреховным, уже рай заказан; и в какую бы пустыньку ни забились они, а уж всё – отвержены от единого тела Христова. Спеши, блаженный Феодор Мезенец, ускорь по земле шаг, чтоб возвестить: «Един Бог, едина вера, едино крещение, един путь спасения…»
Страданиями своими прозрел блаженный: стали вовсе неважными христианам почины и мечтания Никона, ибо их превозмог страх грядущего суда за измену досюльным заповедям; потому и уши оказались закрыты и для добрых слов, исходящих от святителя.
Вся Русь, казалось, оценивала, а после медленно начала откатываться от престольной, погружаться в себя и занимать круговую оборону.
…В Шуйской селитбе дали Феодору компас-маточку, проводника, и за седмицу терпеливого ходу достиг он Кирилловой пустыньки на Суне-реке.
Четыре лета не виделись, а как вечность минула.
«Правда ли, нет, – домогался Феодор у послушника, – что новый учитель ваш безумен и предался дьяволу? Ходят слухи, де, сушеным детским сердчишком причащает вас и тем порошком к сатане привадил?» – «Враки, отче! От злых недругов косоплетки. Мы нашего учителя не похулим. Твердого, святого жития». – «А куда прежний-то девался?» – «Сошел от нас. Преставился. Сам травичкой одной питался и нам наказывал. А травки поемши, не шибко поклонишься», – немногословно ответствовал парнишонко и даже как бы напугался искренности своей, не сболтнул ли лишнего, и при всяком новом вопросе торопливо набавлял шагу. И понял Феодор: железной рукою ведет новый настоятель обитель.
Из редких весточек на Мезень от отца духовного ведал Феодор, что старец Александр, зело наскитавшись по Сибирям, сыскал пустыньку по Суне-реке и привлек к себе истинным богомолением изрядно учеников, но с монахом Кириллом расскочилися.
Два лета жили душа в душу, а после начались нестроения в скиту, ибо от глухой ухоронки завелись у нового келейника сердечные черви и принялись его люто грызть. И сказал инок Александр основателю пустыньки: да, ты, старик, здесь уже семьдесят годов прозябаешь, а какой от тебя святой вере прибыток? Этакое большое дело затеяли, а чихнуть боимся. Еще где у черта становой пристав свой запах даст, а мы уж, как зайцы, по кустам попрятались, дрожим, чихнуть боимся, как бы власть за хобот не прищучила. От антихриста хоронимся, зажмуря глаза, ускочиваем в лес, так как же истинную веру боронить думаем? А мы вот так себя поведем отныне, чтоб шиш антихристов и носа сюда боялся показать да обходил нас стороною верст эдак за сто и другим своим прислужникам сюда путь заказывал. Вот я на Пилве-реке был: крепко и стойно живут там старцы, твердой рукой правят, стороной всей завладели, а ты лишь смущение вокруг себя сеешь.
Только заплакал, застонал старец. Понял он, что люто обманулся в пришлеце, приняв волка за смиренную овчю. Четыре завета должен соблюдать монах, входя в монастырь: радети о том, чтобы исполнить обещание, творити то, что повелевают, есть то, что дают, не быть печальному, егда наказывают. И все четыре урока не пристали к иноческому сердцу. И тогда сказал старец Кирилл: «Вижу, что стар я стал, а больше того неугоден вам. Знаю я, чего тебе хочется, отец Александр. К бабам тебе хочется, похоть свою утолить из сосуда дьявольского. А коли так, полно вам меня настоятелем держать, выбирайте себе другого».
На тех же днях не вынес измены, помер старец. И как в воду глядел. Заселился подле пустыньки на новинах Мокей Зюзин с бабами, а там и иные потянулись семьями к реке, чтобы вместе держаться за старую веру…
Невнятны, призрачны страннические ходы, а приметы их ведомы и видимы лишь очам сердечным. Много тайных и явных путиков и троп на Руси у богомольников, и всякая начинается и кончается у часовни. Как бы круг золотой ради Спасителя замыкает поклонник, а ключ его в сердце праведника.
…Душа-то всегда подскажет, коли слушать ее.
И вдруг запелось: «На-у-чи-и меня, мать-пустыня, как Божью волю творити». Феодор даже подивился своему сладкому тонявому голосишке, такому чистому и прозрачному сейчас, как лазоревая купель меж вольно гулящих по небосводу древесных вершин. Где-то невдали в лад юродивому проблеял лесной барашек и свалился в болотистую низинку. Сами собой побежали ноги. Спутник куда-то пропал, да и полноте, был ли вовсе? Сиренево цветущие мхи с бархатно-коричневыми куполами вешних грибов, будто облитых медом, ложились под босую ступню, как шемаханский ковер. У лесных бортей слитно гудели пчелы, брали первый взяток. Пахло нардом, кипарисом, елеем, словно бы невидимый дьякон окуривал торжественный путь монаха; будто приблизились не к северной реке, только-то освободившейся ото льда, а к великому граду Иерусалиму, что вот-вот должен показаться пред очию, как Китеж из озерных вод, открыться ярой негасимой свещою из зеленого, таинственно-мерцающего полога. Почти рядом пролилась по камешку речная струя, и Феодор с ликованием принял конец пути. Земля как бы раздалася, расступилася, и меж двух рыжих холмушек, увенчанных жарким сосенником, на дне распадка показался ухоронок. Сверху скит повиделся большими темными валунами, и серый крестик крохотной луковички на часовне совсем потерялся на островерхой крыше. Что-то тревожно кольнуло Феодора, но псалом в душе был столь ликующ, что мимолетная тревога тут же и потухла. Феодор пал на колени, поцеловал грудь матери-роженицы. И молча воспел Исусову молитву. Потом торопливо, боясь опоздать к вечернице, спустился в распадок, толкнулся в незаметную дверцу.
Внизу скит оказался крепостцою; за высокими палями из вбитого заостренного чеснока, плотно уставленного стеною, нельзя было не только разглядеть келий, но и услышать, что происходит во дворе. За такой стеною хорошо творить грех. Феодор прислушался: было немо за городьбою и как-то устрашливо духу. Юродивый перекрестился и снова прогнал прочь неведомый испуг. «Не обманулся ли, часом? – подумал. – Не бес ли вадит в теснинах своих, чтобы уязвить меня зело?» Да нет-нет… тот же проводник уважливо встретил во дворе, поклонившись земно, провел через сени в избу и снова пропал. Феодор принюхался у порога и почуял запах скверны. Он встряхнулся, как сиротский, случайно оприюченный пес. Взгремели цепи.
– Иди сюда, сын мой верный, – позвали из-за полога, разделяющего избу. Феодор возликовал, отпахнул резко тафтяную завесу и поначалу растерялся. По обеим стенам во всю их длину на тяблах и полицах стояли золотые иконостасы с десятками изумрудных елейниц и толстых, с руку, свеч: свет острыми копьями рассекал жило, и там, где скрещивались лучи, в воздухе, слепя инока, висели иерусалимские звезды.
– Господи помилуй! – воскликнул Феодор со слезою во взоре. Ему почудилось, что угодил он на горнее седалище, и это от самого Христа, от его десниц, очей и плюсн источается такой небесный врачующий свет, коего не сыскать во всей поднебесной.
– Ступай ко мне, сынок! – снова, уже требовательней, нетерпеливей воззвали из глубины избы. Инок шагнул сквозь звезды, и, казалось, холщовый кабат его возгорелся, и жар тот напитал каждую телесную жилку.
Клеть была без окон. В переднем углу моленной висел в цепях распятый человек, в растянутых руках он держал по свече. Внизу на примосте возле ног старца сидел, пригорбившись, юный монашек и читал минеи. Черная ряска была пришита к скуфейке, и юроду увиделся в полумраке лишь мягкий полукруглый очерк скулы. Не особенно любопытствуя, зная перед собою лишь Учителя, Феодор торопливо упал на колени и облобызал босые ступни старца, какие-то гладкие, прохладные, вроде бы вырезанные из грушевого дерева, пахнущие елеем, и воском, и сандалом. Отрок по-прежнему мерно, текуче читал житие святого пророка Амоса. Ангельский голос!.. «Воистину в раю перед Сладчайшим», – умиляясь, подумал Феодор и споднизу, мельком, совсем случайно взглянул кроткому ангелу в лицо и вздрогнул. То была отроковица, совсем юная монашена, сладкая ягода виноградная, бледная как полотно, с набухшими, слегка косящими глазами и червлеными, безвольными набрякшими губами. И снова пахнуло на юродивого гибельным соблазном, словно в вертеп к блудодеицам угодил ненароком. «Ну да полно-полно крёхтать, на пустое блазнит», – остепенил себя Феодор, но с колен подниматься медлил; он пугался взглянуть на Учителя, упорно прятал глаза, боялся встретить чужое обличье. Да и долго ли спознаться в сумерках? Может, и не девка то была, а бесова картинка. Но Учитель отверг сомнения. «Ступай, ступай, дочь моя, – велел с кротостью в голосе. – Да вели-ка стряпухе собрать на стол».
– Аркан не таракан, хошь и зубов нет, а шею ест, – молвил старец Александр и довольно ловко высвободился из цепей, сунул ноги в валяные калишки и, не глядя на Феодора, пошел прочь. Старец не переменялся с годами, лишь чуток подзасох да широкие прямые плечи приобвяли: под белой шелковой котыгой, подпоясанной пестрым вязаным кушаком, шевелились упрямые лопатки. – Другой раз и сутки так виснешь, иное и седмицу, – кинул за спину, вроде бы ненароком похваляясь подвигом. – А ты вон каков! Ты было даве заснился мне, я позвал тебя, и ты пришел! – Учитель мягко, вкрадчиво засмеялся. – Ты сын мне. Я бог, а ты сын, – добавил будто шутейно…
– Спутал ты мне весь ум, отче, – признался Феодор. В теплых сенях подле печи уже стояла шайка с водою и низкая скамеечка. Настоятель опустился на сидюльку, осторожно принял в ладони чугунную синюшную ступню страдальца, провел теплым вехотьком: блаженство растеклось в груди, и странник едва не застонал от счастия. Но тут же насуровился, с пристрастию уставился в макушку старца, уже сивую, с тонзуркою на темени, тщательно выскобленной: кожа на маковице была желтой, туго натянутой, и от этой репки истекало тепло. Старец вдруг поцеловал плюсну юродивого и спросил шепотом:
– Сердешный мой. И туго, знать, было?
Старец Александр, словно подпадая под дух юродивого, прислонился лбом к чугунному кресту на груди Феодора, остудил внезапный жар, волною приступивший в голову. Юродивый молчал, покоряясь ласковым рукам старца: так бережно и ловко обихаживали они ноги страстотерпца.
– Иль забыл? Это я тебя позвал. Ты малой тогда был. Отец чуть не прибил меня. Запамятовал? – Старец притравливал, испытывал гостя. Юродивый снисходительно, со смутной полуулыбкой, чуя свою силу и власть, приопустил взор. Подумалось мельком: «Эх, батько-батько. И тебя укатали крутые горки». Старец не то чтобы вылинял, но как-то потускнел, едва ощутимый иней пал и на смородиновые темные глаза страдника, и на вислые усы, на струистые тощие пряди сквозной бороды: весь облик припорошило неощутимой смертной пылью.
– Поначалу-то да… – встрепенулся Феодор. – Поначалу-то ноги – как коченья мерзлые. По калыхам-то бум-бум. Как пест в ступе. В избу-то войду, как начнет ноги рвать, аж сердце займется. Пожмусь, пореву, ажио в крик. А после и отойдет боль. А потом и легче, и легче, и перестало болеть. Изболелось, Христа ради. А вы тут как? – Феодор строго посмотрел духовному отцу в глаза, и тот воровато, смутясь, вдруг приотвел взгляд.
– А вот, сам видишь, – развел руками. – Боронимся от диавола…
Потом сидели за столом: уже все было уряжено да обряжено. Стряпуха средних лет подавала кушать, но трапезою настоятель лишь подтверждал монашеский подвиг. Даже за-ради странствующего гостя были поданы лишь груздочки тяпаные с постным маслицем, да горошек-зобанец, да редька кусками, да кисель брусничный. Нет, тут не потрафляли плоти. Настоятель же отпил кисельку, со тщанием оправил рушником усы, но этой мелочью внезапно и выдал любование собою. Они вели разговор обрывисто, недомолвками, наверное, боялись заговорить о главном, хотя оба понимали, что занимает и гнетет их.
– Ведь чужую славу на себя переимываешь, – сказал юродивый, запивая трапезу квасом.
– Да что ты мечешься, как шелудивый от блох… Веком на себя чужого не примеривал, – обиделся старец. – Знай, и Христос был человек.
– И не боишься, что черти в бочку с гвоздьем утолкают?
– Я чертей не боюсь, сынок. Я Господа своего боюся, Творца и Создателя, Владыки. А дьявол – эка диковина, – натянуто засмеялся старец, но в темных глазах зажглися волчьи огоньки. Не по нутру было, что столь назойливо допирал пришелец. – Чего дьявола бояться? Бояться надобно Бога. И так мы с ним до пристанища ладно дойдем. А ты-то, юрод, чего ко мне прибрел? Чего такого ищешь? Какого своего Бога потерял? И как станешь искать то, чего не знаешь вовсе? Ты к батьке своему прильни душою, а он тебя не выдаст.
– Душа моя скучает о Господе. Как я могу не искать Его? – просто ответил Феодор, и в бледно-голубых глазах его зажегся свет. И старец услышал в голосе особую силу и возревновал к гостю.
…Эх, старец-старец… Когда-то ты возмечтал Русью править, самого помазанника Божьего возжелал заместити на престоле, кащея сын; и так все ладно приклякивалось в твоей буйной голове за басурманской спиною, когда ночами выстраивал рати под свои знамена и спроваживал их к престольной. Во снах-то и всякая несуразица клеится да ладом течет, как наяву, а в жизни и друзьяки верные, крестовые братья в разброде толкутся, измышляя измену… Гляди, даже пустынью, малой обителью управить – и то за великий труд. Вот явился с бела света взбалмошник, бездельник и плут, что самолично вознес себя в юроды, в Христовы вестники, а для тебя уже и он за язву, и ты не ведаешь, как умилостивить его.
– Ежли душа истинно знает Господа, закоим искать его? С того и старая вера наперекосяк. Ну ладно, ладно…
Старец порывисто принакрыл узловатыми пальцами, унизанными перстнями, сухонькую, изветренную лапку инока, как дворового воробья, словно бы слышал биение его всполошившегося сердца. На тыльной стороне ладони увидел юродивый белесый следок с паутинчатыми кореньями, ход наружу от былой сквозной проточины. Не от гвоздя ли язва? От руки старца шел плотный, успокаивающий жар. Феодор призакрыл глаза, и его обволокло умиротворение. Спать, спать, спать, – нашептывал кто-то незримый. И сквозь дрему, сквозь завесу сухого жара протыкивался издалека баюкающий голос Учителя:
– Вот знай же, милый, какие в подозрении дела, чтобы не угодить случаем лбом о спичку: гишпанская простота, италианское учтивство, польский чин, прусские шутки, датское государствование, английская вольность, францужский стыд, немецкое покорство, шкоцкое отдыхание, московское слово, турское супружество, жидовское обещание, арианская вера, цыганская и волошская правда… Скажи, тебе дочь моя поглянулась, сынок? – вдруг спросил с вызовом старец. Феодор непонимающе открыл глаза: Учитель, опершись локтями на стол, с охальством подмигнул чернцу. – Ну… Хиония.
– Искушаешь, отче?..
– Да что ты… Слышу, как спросить хочешь. Отчего, де, девки вокруг. А я вот так: легко бороться с врагом зарезанным, а ты поборись с врагом живым. Иль трепещешь?
– Опять искушаешь! Адам не сам впал в грехопадение, а через Еву. Оно и выходит, что баба всему на земле злу причина и корень. А терниев корень не вем где прорастет, ежли дашь ему волю… Прости, отец, прости! Жесток ты в вере, воистину велик. А я червие малое, и я убоялся. – Феодор заплакал, всхлипнул, по землистой щеке, оставляя белесый ручеек, скатилась слеза. В неряшливой бороде узкий рот западал, как в яму, и слова истекали глухо, будто из чрева. – Прости. Усомнился и на худое погрешил.
– Чадо ты мое, чадо малое. – Старец неожиданно погладил юродивого по голове. – Да милуют тебя всяческие кручины…
Изба сотрясалась, ходила ходуном. За окном полосовали, рвали сырую темь молоньи, бычий пузырь вспыхивал голубоватым искрящимся светом и снова затворялся мраком. Робко, но ровно мерцала елейница под образом, завешенным пестрым покровцем. Юродивый не раздвинул завесу, но к залубеневшему пестерю приставил иконку Пантелеймона-целителя и долго, с истовостью молился, порою кидая испуганный взгляд в окно, где расходилась непогода… Эко разыгрались демоны, осадили православную крепостицу, норовят взять приступом, Феодор порою заглублялся в молитву, утекал в нее, и тогда за деревянной досточкой в ладонь величиною, через лик святого, как бы сквозь берестяный кошуль, проступал вдруг облик Христа, улыбчивый, ясный, без грозы в очах, но с ободрительной мягкостью во взоре: де, обопрись на Меня, сын Мой, Я подле, Я пасу тебя.
Под кожаными оплечьями осклизло, крест при земных поклонах хлюпал о грудь, выжимал из нее стон. Феодор уморился, и вместе с тягостью сошла на сердце благодать. Феодор растянулся на полу, дав себе знак шибко не залеживаться, встать на ночную молитву. И сразу пал в сон, легкий, нетревожный, когда все тело вроде бы и растеклось блаженно на досках, но душа-то бессонна, отворена для Милостивца, и на широких, подбоистых крылах готова залететь в неведомые пределы. И не слухом даже, но каким-то особым чувством, что постоянно сторожило за юродивым в его беспамятстве, уловил юродивый странный, протягливый вскрик, полный любострастной похоти. Феодор вздрогнул от ужаса, открыл глаза, не ведая, во сне ли померещилось иль кажется наяву. Тут прощально вспыхнула лампадка и умерла, словно задули ее. И вдруг Феодор ощутил на щеке ровное дыхание, безмятежное, влажное, почти детское: рядом зашевелился неведомый и торкнулся в спину горячей упругой грудью. «Свят, свят, свят, Господи помилуй… отжени от мене нечистый окаянный помысл. О, горе, горе мне!» – взмолился Феодор; всю утробу его пронизало жаром, и молитвенный жалобный воп не сразу одолел похотный огонь, растекшийся по чреслам, так что всякий уд застонал и вздернулся.
– Кто здесь? Эй? – спросил в темень. – Олисава, ты? – позвал посестрию и не удивился, ибо Господь все может. Он и из камня сотворит человека.
– Это я, Хиония, – продышало в затылок. Мягкая влажная ладонь вкрадчиво проскользнула по плечу, зашарилась на лице, запуталась в бороде юродивого, указательный палец, как змеиное жало, приник к губам монаха и замер. От пальца пахло скверною, любострастием. Напрягшаяся грудь вздрагивала, острыми сосками прободая юродивого сквозь хламиду, жаром телесным припекала столь глубоко, будто корчился Феодор на печи.
– Изыди, грешница. Тьфу на тебя, чертово семя, – окстился Феодор. И хотел было локтем двинуть любодеицу, припечатать десницею, ошавить развратницу, чтобы вернулась в разум. И тут как бы небо разверзлось, и в сияющей голубизне явственно высеклись багряные письмена: «Легко бороться с врагом зарезанным, а ты поборись с живым…» Зрит Спаситель, все видит. Испытует, каков я истинный и глубоко ли грех во мне. И неожиданно успокоился Феодор, зальдился, и недавнее томление отпустило разом.
И ветер на воле, предвестник близкой грозы, тут же стих, и в тишине ночи с мерным шуршанием посеял дождь, первые капли сыто скатились из потоки в кадцу, но вдруг ливень с плотным шумом ударил в стену и давай полоскать избу с прерывистым треском и хлопаньем, будто на воле мовницы выбивали холсты. И снова легко так стало на сердце, вольно, и гнетея отступила за порог. Феодор высвободил из бороды ладонь монашены, положил на верижный чугунный крест: тонкие персты затрепетали, словно бы их прижгли каленым шкворнем. То бесы, почуяв страшную погибель свою, устремились прочь за подоконье. Но юродивый пуще сжал пальцы извратницы, расплющил о крест, и тут блудодеица прянула телом в сторону, забилась головою о пол. И, наверное, померещилось Феодору, что за стеною засмеялись, кто-то вкрадчиво прокрался к двери, и сквозь стену проточилось через невидимый зрак гибкое пятнышко света.
Феодор сел, насторожился. Да нет, причудилось, знать: по-прежнему с хлюпаньем и шумом изливались небесные хляби, земля скрылась под водою, изба стронулась и поплыла к неведомым вратам, как Ноев ковчег. И возрадовался юрод, что пред концом света победил в себе любострастного змия, вырвал прочь похотливое жало. Ладонью он нашарил впотемни голову несчастной, погладил ее теплые потрескивающие волосы, рассыпающие голубые искры; Феодор приласкал несчастную, как отец прижаливает заблудшую дочь свою. Монашена поймала твердую ладонь инока и поцеловала, обливая искренними слезами. Горький камень рассыпался в гортани, и Феодор тоже желанно заплакал, сглатывая сладкую влагу умиления… О, Боже, я, червь ничтожный, земно кланяюсь Тебе, что не запечатал Ты во мне родник слез.
– Ой срам-от, какой срам, – нарушила молчание монашена.
– Немощная чадь, сосуд греха, кокушица горькая. И келейная ограда не боронит от бесов, ежли в своем сердце оставила лазы. Иль по чужой воле приняла ты, юница, ангельский чин?
– Ой срам-от, какой срам, – повторила черница и рванула ворот исподницы.
– Эк тебя мучит да корежит. Иль душу готова убить? Постегать бы тебя надо, – жалостно, не повышая голоса, приговаривал Феодор, не сымая баюкающей руки с головы монашены. – Ступай, дево христорадное, и проси Господа… Грехов буря настигла и чуть не перевернула корабль чистоты. Покрыло нас помрачение, но будь крепка. Воссияет Пречистая, избавит нас от потопления. Ступай-ступай да прикинь на себя урок послушания, отбей три тыщи метаний, и струпья соблазна осыплются с души, аки прах. А я за тебя с рыданиями молиться стану, ибо никто по всей земле не согрешил от века так, как я, окаянный и блудный.
Феодор растянулся ничком на полу и захлебнулся слезами, и в этом безутешном плаче вдруг забылся. Он очнулся, наверное, оттого, что перестал дождь. Последние капли со чмоканьем падали в переполненную кадцу. Каждый звук так ясно и зримо проникал с воли, словно бы растворились стены избы. Юродивый перекатился на спину, звеня веригами. В келеице никого не было, и ничто не напоминало о ночном наваждении.
Феодор выбрел в сени, стараясь ступать бесшумно. Пахло рыбной ествою. Будильщик-монах дремал у выхода. Над дверью мерцала елейница. Феодор выступил на крыльцо. Тяжелое небо прогнулось от грузной фиолетовой тучи, густая водяная пелена струилась в воздухе. Ближние березняки за городьбою в одну ночь принакрылись зеленым облаком. Земля расступилась, паря, и из очнувшегося чрева погнала травяную ласковую щеть, такую нежную для остамевших за зиму ног. Меж пальцев пырскала водица, и вешняя грязь была чудодейным врачующим бальзамом. Провожаемый тайным досмотром, юродивый покинул особножитный скиток, так думая, что навсегда, и, оскальзываясь на глинистой тропе, спустился в ложбину на сверток. За холмушкой, покрытой сосенником, как и даве, послышался перелив быстрой воды на камешнике и слитный гуд речного набухшего потока. Тропа вильнула за гривку, и взору неожиданно открылась утренняя река, похожая на дорогу в небеса. Трава плыла по ней клочами и спутанным волосьем, да всякий сор с бережин, и в коричневой толще воды, свивающейся в кольца, не просматривалось ее глубей.
Посреди реки увидел Феодор невеликий островок, густо усеянный обмелившимся серо-зеленым льдом. На самом юру, как дозорный на вахте, кособочилась одинокая келейка. Вдоль берега по отмелям в зипуне и высоких броднях сновал взад-вперед монах, волочил из протоки на сухое верши, полные хламу.
И вдруг островок этот почудился Феодору землею обетованной.
И захотелось остаться там.
Глава вторая
Меч суемудрия, волхвования и смуты будет нестрашнее меча бранного, ибо убивает не только семя и грядущие всходы его, но и саму веру в Сына, высевая по пажитям плевелы ненависти и розни.
А жизнь, лишенная Божьей крепости и цельности, похожа на расплетшийся берестяный пестерь, куда можно много всего сложить, но ничего не унесешь.
Подскажи, Иоанн Златоустый, своим прозорливым умом умиряющий огнь и воду: ежели весь земной суд Сын предоставил священницам, если они возведены на такую степень власти, как будто уже переселены на небо, свободные от житейских страстей, то откуль, затмевая все евангельское и несуетное, прорастает вдруг в них сквозь временные телесные одежды непобиваемый ветхий человек, самому сатане прислужник? Что за верные и благочестивые родители окормляют паству? Они, вроде бы желая блага сыну своему, тщатся, однако, разорить его вконец и надевают через плечо нищенскую суму. Какая цена пастырям тем? Какой дороговью, каким златом-серебром можно откупиться за то червие, что испускают пришлецы истиха из затомившейся души на православные церкви, и веси, и стогна, и торжища?
Тех людей на Руси исстари называли злоимцами и навадниками.
И верно ли, Иоанне, что священники определяют на земле, то Бог утверждает на небе? И тогда все содеянное из зломыслия тоже запишется в Небесный свиток?
Оле!.. и земному слуге своему не всякое дело укладывает Господь на добрую скалку весов.
И однако ж, какое высокоумие, спесь и гордоусие надобно тешить в себе, чтобы, кормясь из чужой горсти, сыскивая на стороне приюту, приклону и защиты, вдруг однажды позабыть и чаемые милости, и честь, и вползти в гостеприимный двор, яко лисовин в курятник, и ну шерстить Русь, прикрывая злоумышление Священным Писанием. Прошак, давно подпавший под агарянина, позабыв родову свою и прежние воли, не из потухлости ли своей и коварства ты покусился с такою легкостью на нашу святую старину. Ибо с тоской возревновав о своей туге, и кручине, и немощи, воспалив в груди жар презрения к чужому благочестию, ты и благодетеля своего, простеца человека, готов довести до разрухи зависти ради, только чтобы уравнять с собою в горестях и нищете.
…Двадцать четвертого февраля 1656 года (несчастный для Руси день) пришлые чуженины прилюдно в Успенском соборе прокляли в Москве всех ее насельщиков, крестящихся по-заповеданному двумя персты, а значит, и всех угодников Руси, ее святых, защитников, и праведников, и святителей, и мучеников, и устроителей, и мнихов-пустынножителей, и купечество, и князей благоверных, и ремественников, и смердов, в свой час когда-то сошедших в землю. Как монастырский чернец учит мальца начаткам грамоты, так и Макарий Антиохийский показывал именитым богомольникам, самой державе престола, как надобно слагать персты в поганую щепоть, и сербский патриарх Гавриил, уже по сговору с царем, охотно потрафлял наустителю.
О, Русь православная, сладко рекомая третий Рим, и неуж ты не почуяла глубинной, долготерпеливой, смиренной душою своей, как пришлецы-милостынщики ловко накинули ярмо на твою шею и повлекли в пропасть, словно негодную падаль: они с насмешкою покусились, несмотря на ропот прихожан, на самое заповеданное, с чем рождается и сходит в ямку всякий русский, искренно верующий в Господа нашего. Они покусились на знамение, на первую буквицу истинной веры. Угодники православные, Иона, митрополит Московский, Филипп-мученик, невинно убиенный святитель Петр, и неуж не сотряслися ваши нетленные мощи в изукрашенных скудельницах, когда над вашими склепами творил анафему Макарий Антиохийский.
Это ведь перетряхнули в домовинке ваши медовые косточки и надсмеялись над ними, де, святости в них нисколько, раз не обрушились стены церковные на головы хульников, а значит, де, и вера ваша русийская не истинна. Но от кощун взнялась невидимая волна горечи, ужаса и тоски по грядущим несчастьям и затопила Успенский собор, прободила стены и валом накатилась на стогны Москвы, потопляя смятением всякий дворишко, а после вселенской рекою давай растекаться по селитбам, погостам и посадам великого царства, так угодного и милого Господу. Но знайте, навадники, занявшие чужой амвон: скоро, уже на запятках, грядет день, когда ради истинного креста бесстрашно войдет русич в костер, не убояся великих мучений. И не то странно и кощунно, что поднялся мужик на защиту своей веры, презрев смерть и воспротивившись царю, но было бы вовсе худо и смертно для его души, если бы он, безропотно откинув за ненадобностью родителевы заветы, вдруг безо всяких колебаний приткнулся бы к новинам, принял чужеземное лишь потому, что какие-то пришлецы, числясь в ревнителях истинной греческой веры, указали новую, только им открывшуюся истину…
Царь выступил из сени и, взойдя на сулею, поклонился Макарию, поблагодарил за отеческую науку, а после оборотился к богомольникам и окстился щепотью, сильно бия себя в лоб и плечи, да еще и с вызовом поцеловал свои персты с тем тихим умилением и слезливостью во взоре, с каким обычно припадал к образу Спасителя. И не случилось грозы, даже малым сполохом не означил себя Господь, не покарал еретиков, не раскроил на лоскуты своим невидимым огненным мечом, только вроде бы затхлостью, мертвечиной опахнуло в соборе, словно тухлой привады припасли в алтаре для праздничной гоститвы сатанаилу.
Но никто не осмелился покинуть службу, иные затаили рыдание, замиряя в груди сердечный клекот, иные же глухо возроптали, стесненно вздымая голос и прячась в затенье притвора, куда худо доставал свет большого полиелея; ну а те, кто плотно окружал государеву сень в золотных шубах, подбитых соболями, и лисьих горлатных шапках, все царевы слуги-потаковники и челядинники Шереметевы и Голицыны, Трубецкие и Милославские, Морозовы и Сицкие, Головины и Плещеевы, Бутурлины и Годуновы, Стрешневы и Ртищевы, те, кто повязаны дружбой, службой иль кумовством, – они как-то воровато, поначалу несмело примерили к себе поганую щепоть, осквернились, закрыв глаза и боясь Божьего гнева, и одним этим знамением не только сплотились меж собою, пусть и временно, как заговорщики, но и еще более прильнули к государю, опередив других, сгрудились, скучковались вокруг государевой сени живой стеною.
И всякий из них не испытал смятения иль сердечной туги, не икнуло у него в черевах, не отдалось тягостью в душе, ведь сам помазанник Божий расчистил им путь измены: и ближние бояре с легкостью поменяли покой вечный на блага земные, смердящие. Ведомо же: каков поп, таков и приход; батько в лоб щелкает, а ты улыскайся, де, добро, нежно и сладко, как груша в патоке. Эхма… Бывало, царь Иван говаривал прелестникам: «Нам греки не Евангелие. Мы веруем в Христа, а не в греков». И был прозван за то Грозным. А ты, Алексеюшко, сталкиваешь Русь Святую во гноище и прю, а ишь вот, слуги твои верные за спиною кличут тебя Тишайшим, когда ты поддаешь им хорошего пинка пониже спины, чтобы не возгоржались. Это ты, Алексеюшко, прозвал Макария медоточивого своим батькою, от тебя пошла молва: де, я, государь расейский, за-ради греков отдам не только богатства, но и кровь свою.