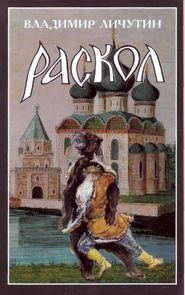скачать книгу бесплатно
– Разоболокайся, старче, не стыдися сирого сына своего. – Крутился старец в руках Никона, как осиновая баклуша под ножом ложечника. – Что есть плоть, как не вериги души вечной. Ох ты, какой мозглый да квелый. – Никон отстранил старца мощной дланью, как бы издаля проглядел инока, решая, что дальше из него творить, и бросил его в патриаршью постелю. Закричал, наливаясь кровью, и вид его был страшен. – Клеплют, завистники и заплутаи, де, езжу я в повапленных и золотых каретах! Но и почиваю-то я, грешный, как великий государь! Сладко-нет в пуховых перинах? Потешь, батюшко, кости, погрейся в лебяжьих одеялах.
Жалок и смирен был голый монасе, и постные мослы едва не взрезывали худобу: не нарастил келейник мясов на патриаршьих подачах. Иль черной завистливой душе и крупитчатые калачи не впрок? На глазах старца Леонида выступили слезы, нос покраснел и набряк. Чернец даже и не пытался возразить иль пойти впоперечку, но покорно скрестил на груди руки, будто приготовился умереть страстотерпец.
– Укрой шулнятки-то, ябедник! Ну! – Никон взмахнул посохом. Но духовный отец не сморгнул, лишь мелкая сыпь вылилась на лядвии, а сухие длинные ноги посинели.
И попросил старец побелевшими от тоски губами:
– Потешь душу, патриарх, побалуй дьявола. И неуж ослеп, святитель, и не видишь вокруг, что все, кто одесную были от тебя, нынь попятились и впали в печаль. Не робей, Никон! Грешить сладко! Но попомни: кто в сей жизни невинного бьет, тот в будущей стократ побиваем будет.
Старец Леонид безгубо улыбнулся, обнажил съеденные розные зубы, вроде бы чистую правду глаголил доноситель, каждым укорливым словом припечатывая патриарха, но ведь за эти изветы, за эту кощунную ложь должны бы поразить чернца небесные громы? Но старец не только не пугался Божьей грозы, но еще и насмехался над Никоном. Он порывисто повернулся гузном вверх, подставил патриаршьему гневу сморщенные, как печеные яблоки, ягодички и узкую, прогнутую седлом спину с крупными катышами позвонков и белесоватым длинным шрамом меж лопатками: с молодых лет памятка от ляшской сабли.
– Слезай, кобелина! Ишь разлегся! – приказал патриарх. Он облокотился на посох, разглядывая любопытно немощнейшую изжитую плоть духовного отца в государевых постелях. Морщинистая, издряблая шея с волокнистыми косицами волос была как корень редьки, у левого плеча крупная бородавка с перепелиное яйцо. «Ох смутьян, смутьян, – Никон жалостливо покачал головою, – не в этот ли вулкан влезает зло, коим, знать, и прозябаешь лишь? Негодник, я-то тебе чем не угодил?» – Слезай, шептун, с чужого одра, – повторил Никон. Еще подумал: экий, однако, самовольщик и большой нахал.
– Не слезу, – упрямо, противился старец, вцепляясь пальцами в переднюю грядку кровати. – Обещался, милостивец, так бей, исполни грозу! Я не боюся! Меня ангелы пасут!
– Тьфу!.. Не ангелы тебя пасут, а содомиты! Ну гляди, истолкут тебя черти в ступе за лжу! – вскричал Никон на упадшего в грехи старца и брезгливо пихнул его осном под ребро. Кожа на удивление легко прободилась под пикой, как хлопчатая бумага, и на синей круглой язве выступила поначалу ягодка крови. Никон ошалело, с глухой обидой смотрел на руду, как набухала она, а после протекла по коже брусничной слезою. Ишь ты, дьяволина, вроде бы шептун и навадник, кровь-то у проказника почернеть должна и свернуться, а тут будто клюковный морс – Бесстудник, гузно-то оттопырил. Больно красиво? Перепояшу ключкой, мало не будет. – Увещевая старца Леонида, как малое дите, Никон вроде бы шутейно снова вскинул посох, но голову патриарха уже забивал дурной черный туман. Сам-то патриарх урослив и капризлив, в смутные, минуты иногда вершил дела не по Божьему изволу, а после каялся, стеная. А тут изменщик пошел впоперечку, не чует за собой вины: знать, измыслил бесовскую правду, вот и кроит каждое слово наперекосяк, лишь бы совратить праведника с пути…
И Никон ударил старца как бы нехотя, перетянул комнатной ключкой по хребтине, по белой нитке шрама, и он сразу налился кровью и лопнул. Позабыл патриарх каменную мощь своей длани, и бедного чернца прогнуло в государевой пуховой перине, как умирающую на морозе наважку, только что вытянутую на лед рыбацкой удой из иордани. Бешенина ослепила Никона и повлекла в омут. Никон даже что-то вскричал, вроде бы: «повинися-повинися», худо помня своих слов. Мозглеть иноческого тела, квелость худых серых мясов с резко проступающими ребрами не воззвала о жалости, но противилась ей. Вот, де, мне сладко немо вопить и корчиться под кнутом истязателя… Ах, изверги, ежедень мечтаете о рае, дозирая за чужими грехами, а душу свою губите на земле, ближних своих ввергаете в изврат. Изгоню-ка я вас бесстрашно бичом из церкви, как завещал Спаситель, и все ваши грехи взвалю на свои рамена…
Старец не ойкнул, не простонал, ничем не выдал боли, лишь беззвучный плач прокатился по сухой спине, продавленной седлом. И эта дрожь беспомощного тела, а может, и проточка крови на квелом боку иль рудяной жгут меж лопаток вдруг раззадорили Никона и дали лютой решимости сердцу. И со всей отмашки патриарх жиганул старца по крестцу, а после по изжитым стегнам и по будылинам ног, по искривленным перстам растоптанных лап, кои на своей памяти не раз умывал, когда привечал духовного отца в своей келеице, как ближнего гостя. Бедный, бедный старец! Вскричи же, взмолись о милости, и сразу дрогнет, отмякнет душа патриарха. Не душегубец же он, не убивец, не палач с Болота, чтобы так немилосердно сокрушать ближнего своего. И он, Никон, тоже плачет втайне, молит о пощаде!..
И на последях с особой острасткой стегнул Никон ключкой и правую будылину монаха переломил надвое, так что нога завернулась стопою вовнутрь. И не сдержался старец, заскулил по-щенячьи, заверещал от боли, запрокинул с усильем голову, и увидал патриарх в напряженном выкатившемся глазе кровавую слезу. И, унимая испуг, закричал Никон:
– Изменщик… До конца дней своих гнить в застенке! Спроважу в Разбойный приказ на встряску! Пусть дознаются, заплутай, что измыслил на государя. Изгоня моя на тебя до скончания времен и анафема. – Никон бросил ключку, стряхнул старца на пол вместе с полосатой наволокой. – Эй, кто там на сенях? Спите ли што, замотаи? Патриарх вас кличет, дозваться не может!
Вбежали два недремных подьяка, смиренно поклонились. Никон спрятал взгляд. Отвернувшись к образам, приказал:
– На чепи разбойника… В Воскресенский монастырь в застенку. Пусть сгниет тамо, еродит. Он патриаршье место испакостил, охальник.
И когда уволокли старца Леонида в темничку, позвал Никон ближнего служку Иоанна Шушеру и велел кровать из опочивальни выкинуть немедля, а к боку ценинной печи поставить широкую лавку и покрыть новым бумажным туфаком.
Поздно иноку привыкать к государевым свычаям: от пуховой перины пролежни бывают, поясницу схватывает и в гибельный покой манит.
3
– Порато наугощался инок. Дарово дак… Гляжу, волокут, как падаль. – Без укоризны, но со смущенным весельем молвил государев спальник боярин Никита Зюзин, входя без спросу в патриаршьи покои в самый неурочный час. Лишь великий государь да Зюзин и смели вот так заобыденку переступить заповеданный порог святительских покоев. – Чем прогневила тебя эта немощнейшая чадь, святитель? Знать, что-то сглупа натворил?
Никон не сразу ответил. Он еще не остыл, тряслись руки. Исподлобья, боясь насмешки, глянул на гостя, перемогая душевный морок. И снова воровато уклонил взгляд, будто уличили в дурном. Да и то верно, негоже патриарху руки распускать. И так дурная слава по Москве: де, патриарх добровольно заместил кнутобойного мастера. Буркнул, снимая скуфейку:
– Слегка перетянул, а он и обмер, заушатель. К ответу призвал, а он квелый оказался. Грешить-то они лов-ки-и! – Никон удивленно хмыкнул, подозрительно вперился в гостя. – А ты чего ко мне без зову? Следишь, что ли?
Сказал – и вдруг легко улыбнулся Никон, оттаял, и сразу годы куда делись? Любим его сердцу боярин. Глаза у Никиты – как два острых осколка от иноземной сахарной глызы иль два окатных онежских жемчуга, серебристых, с голубизною на дне; крупная бритая голова шаром, тугой оклад русой бороды; боярин степенный в повадках, открытый, неспешный, круто замешенный на русском дрожжевом тесте.
– Копают?.. – утвердительно спросил Зюзин. Он по-хозяйски опустился на переднюю лавку под образами, откинув в стороны полы енотовой шубы с искрами морозного снега. Светлые куцые бровки стояли хвостиками от близкой блуждающей улыбки. – Копают… и гвоздье уж сковали…
– Роют ямку, будто и подох… Отцы детей своих заживо хоронят, – Никон подал челобитную старца Леонида. – Отравись-ка ядом. Поймешь, как мне дурно нынче.
Патриарх присунулся рядом на лавку и, пока читал Зюзин грамотку, с ласковой бережностью снял с собольего ворота снежную бахромку, понянчил пух в горсти и сдунул на пол: сугробик развеялся белой пылью, осел на пол и источился в шерстяной щети ковра, оставив влажную плесень… Ох-ох, не так ли и жизнь наша?.. Никон пригляделся к гостю: беличьи хвостики бровей шевелились в лад губам, простодушным, припухлым, каким-то детским, так и не затвердевшим с годами. В продавлинках на тугих щеках скопилась зоревая водица. Никон вдруг порывисто прислонился губами к лицу боярина и вдохнул. «Господи, – подумал, веселея, – от хорошего человека и дух-то сытный». Зюзин готовно отозвался душою на порыв святителя и поцеловал его морщиноватую изжелта-серую руку.
– Ты нищелюб, – твердо сказал Зюзин. – А они себялюбы. – Он не удостоверил, кто это «они», но Никон знал, о ком идет речь. – Ты Бога в себе любишь, а они в Боге себя. Ты при жизни источил мирское, а они с собою нажитой тлен и прах хотят унесть…
– А ты будто иной? – поддел Никон, вроде бы пропустив похвалы гостя мимо ушей.
– И я пустоцвет, до одного разу живу. И я опреснок веры поменял на сдобную перепечу мирской суеты. Но ты меня не кинешь, я знаю, ты меня спа-се-ешь! Ты ведь спасешь меня, бачка, не кинешь на Вышнем суде одного? – Зюзин искательно засмеялся, ощерившись, и плотно усаженные зубы его снежно блеснули.
– Боишься суда-то?..
– Страхом лишь и спасемся.
– Ты меня, боярин, не по заслугам чествуешь, как Христа. Не вем, где мне скитатися доведется… А ведь отец мой лаптем шти хлебал. И неуж незазорно к мужику прислоняться? Как все от меня откажутся, и ты прочь побежишь…
– И побегу от долгов, да салом пятки смажу. Чтоб не догнал…
– И побежишь…
– Ну а как же?.. Побегу за тобою. Я пристал к тебе, как репей к штанам. – Зюзин посерьезнел, но смех с трудом укладывался в широкой груди боярина. Шуба была накинута прямо на рубаху, шелковая темно-синяя котыга на восьми позолоченных гнездах, казалось, лопается на крутой дебелой шее. – Святитель, чего молвишь! Стыд-то! За что? Да коли замыслил бы дурное, давно бы к лихой дворцовой упряжке приструнился. Хоть и пасуся там, но особь. Их там много скопилося… Выскочки. И Хитров там, и Ртищев, и Матвеев, и Нащокин, и Соковнин, и Милославский. Все прежде из худородных, да зато все в родстве промеж собою, дядевья да братаны. Все в Терем под кафтаном Бориски Ивановича Морозова проползли на карачках, да зато ныне в пристяжных. Боится царь именитых еще отцовым испугом, вот и приблизил худородных. С фонарем наискал на Руси. Они верные Борискины псы, им много всего надо. Ненажористые, их мослом со стола не прокормить…
– Эво, как зло ты. А напрасно. В худородных, парень, кость да жила – гольна сила. – Никон отстранился от боярина, засуровел, приняв намек и на свой счет.
– Ты себя с има не ровняй, бачка. Ты что-о! Ты иное. Ты-то образ Христов, а мы для тебя овчи. – Зюзин заговорщицки понизил голос, оглянулся на дверь, затянул в дуду старую музыку, кою не раз гудел, да Никон не подгуживал. Царевы уши и в печном продухе: объявит тайный прелагатай «слово и дело», а потом крутись, как карась на сковороде. Потускнев вдруг, слушал Никон нехотя боярские вести. – Тебе, патриарх, лишь славы Христовой надо, а им прелестей иноземных. Ишь ли, им нынче не пристало стоялые меды раскушивать, но подавай питий заморских, чтоб брюхо пучило. Им сикеры фряжские милее нашей браги. А что сикер? Вроде как бранное слово. Сикер! Ха-ха! Нащокинский-то наследник возьми да и поедь грамоте учиться у поляков, а там польстился на этот сикер и остался у костельников. Родину на сикер променял, каково? И батько хорош, нечего сказать: не втолковал сыну, что все науки можно променять на один псалом Давида. Теперь плачет, скулит, сына назад залучить хочет, как полоняника из Орды. Да какое там, уже опился сынок Западом, на Русь плюет с высокой горы. Ныне просится Ордин-Нащокин у царя: де, спусти меня со двора к себе в поместье, де, не могу тебе боле служить верой-правдою, обесчестил меня сынок, обесил, лишил доброго имени. А государь-то ему: де, отец за сына не ответчик. А кто ответит за сына пред Богом на Страшном суде, как не отец? Значит, мало сек сына, коли хранил, тешил тело, но убил душу, потатчик…
Вроде бы и не слушал патриарх боярина, смотрел мимо гостя на потускневшие елейницы (надо масла доправить иль к непогоде?), закаменев лицом, и мыслей своих не обнаруживал. У первосвятителя много тайн, все у него схвачено в узлы да в петельки до самого Царь-града: тороватым умом учен святитель, де, норовишь с другом целоваться, не позабудь засапожник за голенищем. Много у первосвятителя и шишей, и ловыг, что посажены при каждой службе, а вынюхав скрытную весть, мигом несут ее в патриаршьи покои. Никон – солнце на Руси, и до всякой тени и притенья, до всякого заулка и затулья, где может засеяться споренье и гиль, есть ему дело; под его призором пространное, многообильное царство, именуемое Руськой землею, кое ой как трудно содержать в чести и прибытке. Все ведомо Никону, и с главного Успенского амвона он должен почасту взмывать в небо, как зоркий ястреб-крагу и, чтобы случаем не осиротить, не умалить, не обнищить духом самый дальний закут Руси…
…Всё верно глаголешь, Никита Зюзин, но отчего от слов твоих гнетет душу бессильная тоска? Куда ни кинусь, кругом тын да перетыка, как сговорились все противу меня, будто я и есть сатанин угодник и шиш антихристов. Знаю, о чем плачешь, ибо про то стонет всякое неодрябшее русское сердце. Пасу в строгости паству, говорят, де, преизлиха сердит: чуть размякнешь, по шерсти погладишь, молвлют, де, батюшка наш богомольщиков русских бесам продал. Что вино… Не в вине дело, боярин, и не в сикере. Не проклято вино, но проклято пьянство. Не грешно пить, но грешно упиватися. Не виновата бочка, что в ей вино. Худо, что знатные слуги государевы повернулись лицом на закат солнца, а задницей к родимому дому. А куда отец смотрит, туда и синовий взгляд обращен. Много хмельных голов ныне с иноземных затей; чужебесам древлие обычаи не по нутру, они готовы и кожу-то с себя содрать да взамен новое чужое обличье натянуть, чтобы им похвалиться. Эти худородные толкают государя на турка не потому, что Греция им мила и хотят оградить Царь-град от Махмета, но чтобы от Польши он отступился, ибо про то костельники, папежники шибко хлопочут. А нам с турком нынче никак не сойтись в бою, пока Польша со свеями за спиною, а с ними и все еретики. Вот и Ордин замиренья у царя просит, де, негоже долго с братьями славянами ратиться. Да потому, путаник, и надо до победы с униатами ратиться, чтобы из латинского ярма ихнюю голову вынуть, а душу обратить в православное чувство…
Эх, кругом одни плутни: с холопа, как с бессловесной скотинки, готовы последнюю шкуру драть, чтобы те кровавые слезы поменять на прокаженный иноземный сряд… Ой, заликовствуют бесстудники и завистники со всех сторон, коли паду с патриаршьей стулки и загремлю. Много шуму будет, и вся земля сотрясется.
А впрочем, чего я разнюнился, с чего разнылся? Ни облачка в небе и грозой не грозит, и друг собинный постоянно спешит за советом в Крестовую, и православные прихожане с Малой и Белой Руси шлют ко мне посольства со смиренным поклоном, прося заступы. Нет, грешно плакаться и шарпаться: Бог милостив ко мне, долго терпит мои дурни. Знать, с того и ноет душа, что издали чует грядущие невзгоды, ибо самые черные беды подстерегают нетревожного человека во время пира.
Много нынче завелось разорителей церкви под всякими личинами, кто доброе жито веры поменял на спорынью…
– Они друг за дружку удавятся, видит Бог. Такая у них сплотка, что и лезо ножа меж има не протиснуть, – глуховато толковал Зюзин. Боярские речи вдруг словно бы проткнулись сквозь толстую стену и достигли патриаршьего слуха. Согбенный Никон походил на древнего врана. Смуглым вещим оком он внимательно взглянул искоса на боярина, увидел споднизу русой бороды молочной белизны кадык и розовый следок, намятый на коже тугим воротом рубахи. Поленился боярин, не скинул в жаркой келейке шубу, и под мышками проступили темные разводья. Зюзин и сам-то в возбуждении был, как печка – Павла, Крутицкого митрополита, уськают да Иллариона Рязанского, чтобы подпятные жилы тебе резали. Спорь, говорят, с Никоном, ни в чем не давай отступа и роздыху. Чтоб всё на отлуб и впоперечку. Де, Никон – гордоус, сам взорвется когда ли. Де, жмите на мозольту, подтыкайте. Иэх, псы борзые! – воскликнул боярин с горестью.
– Они ж клялись мне большой клятвой во всем слушаться. Плакали тогда, а сейчас, оглагольники, во всякой мелочи меня судят.
– Знать, волю царя чуют?
– Но-но…
– А пошто бы тогда не заступиться за собинного друга? Я не зазрю, что дело это с царева ведома, но мнится», с царевой потачки. Ишь ли, хочет быть масляным блином для всех. Одернул бы хоть раз хорошенько, чтоб неповадно. А то и старых родов бояры на тебя круто пообиделись, де, ни во што не ставишь их честь, ниже псалтирщика сронил. Страшно слышать, патриарх, какие хулы на тебя клеплют.
– Ты к государю не притыкайся, Зюзин. Иль позабыл гнев его? Князь Иван Юсупов за што угодил в Белоозеро с женочонкою и с дитешонками? Позабыл? За то лишь, что не донес государю о хульных воровских словах человека своего Васьки Михайлова, – вторично одернул патриарх. – Тешитесь местом своим и славою. Де, не настигнут. А?.. Голова не волосы – не отрастет. Смелой больно, – прогугнил Никон нарастяг, дружески подтыкая боярина. – Как бы локоть после не кусать. Ну, да ты не робей! Своими полами прикрою…
Боярин смутился, но не от дерзости лишней, а оттого лишь, что решился Никону впоперечку встать, заговорил с великим государем, как с ровнею. И потому сразу перекинулся в разговоре:
– Слыхал-нет? Бахметьева Ефремку нынче кнутом били…
– Видать, за дело? – вяло откликнулся патриарх, думая о своем.
– Племяши Богдановы два Ивана насмелились. Такие находальники, почуяли волю. Принялись у Ефремки Бахметьева имение отымать, а тот им кукиш. На постельном крыльце объявил их недомерками, а Богдана Хитрова главным гилевщиком и заводчиком. «Слово и дело» крикнул. Де, будучи когда на государевой службе на Азовской степи, заводил Хитров завод в убойстве боярина Бориса Морозова, царева дядьки. И в деле том якобы замешан был князь Трубецкой. Грозился Хитрова разорить и в Сибирь сослать…
– Дите неразумное. Позабыл, что с сильным не борись. Морозов Богдашку за чуприну на Верх вытянул. И такого не смекнуть? Знать, поделом Ефремке. Возомнил, спесивец, что он царю однокорытник. Ближнего государева слугу облаял, пес шелудивый. – Никон брезгливо выпятил верхнюю толстую губу. Процедил угрюмо, как бы плевок из себя исторгнул: – Бестолочи… Все бы им свару варить. Воистину: по плодам их познаете их.
Часть вторая
Будите охочи, забавляйтеся, утешайтеся сею доброю потехою, зело потешно и угодно, и весело, да не одолеют вас кручины и печали всякие.
Алексей Михайлович
Глава первая
Знать, от деда Федора Никитича (в постриге – инок Филарет) и от дядьки домашнего Бориса Морозова возлюбил царь Алексей охотничьи потехи.
Отец Михайло в младые лета был сослан с матерью на Белоозеро в монастырские стены под строгий караул, деда же насильно постригли и отвезли на Двину. Уродился Михаил вялым натурою, тихим, медлительным, склонным к мечтаниям, с ознобленной утробою, отчего почасту глубоко грустил и жил во власти кручины, и всякой сильной воле уступал первенство с охотою, как бы добровольно сымал с плеч тягость неотступных государевых дел. Невея с косою постоянно стерегла за его плечом и скоро сманила христовенького в могилу. Но отчего же народ-то русский всякой службы и чина, многих городов с пригородами вдруг напророчил на престол его? Вот и келейному старцу было видение, де, Господу нашему угоден отрок Михайло, инока Филарета сын, что страдает нынче в польском полоне; вызвал люд московский из боярской породы самого негромкого человека, спасенного Ивашкой Сусаниным, и покрыл царевым венцом: видно, устала Русь от самозванцев и самохвалов, лихих неспокойных людей, жадных до власти.
Деда Федора Никитича Романова и жесткий затвор в Сийском монастыре не угомонил. Пристав Воейков, что дозирал за опальным иноком, доносил Борису Годунову с Двины: де, старцы жалуются на Филарета, будто он ночью третьего февраля старца Иринарха, жившего в одной келье с ним, лаял и с посохом к нему прискакивал, грозя казнь учинить, и из келеицы на мороз изгонял, не пуская назад; а живет, де, старец Филарет не по монастырскому чину, всегда смеется неведомо чему и говорит про мирское житье, про птицы ловчие и про собаки, как он в мире жил, а к чернцам почасту жесток и даже угрожает им: «Увидят, де, они, каков он впредь будет…»
Есть дурной сглаз, запуки и порча от обавника и чародея, ведом насыл на след и напуск по ветру от колдуна, когда прежде здорового человека выгложет черная немочь в «стень», в нитку вытянет, в ком дух едва жив от долгих страданий. И в Терем государыни не раз приводили знахарей и травников, чтоб избавить дитя роженое от лихого напуска. Но любовь к охоте – иная хворь, от коей и ограды, пали и затворы всего мира не уберегут: эта сладкая болезнь желанна и вдруг заселяется в сердце как бы с молоком матери в самые ранние лета, когда младенец еще поперек кровати спит: как бы сама ежегодь умирающая и вновь воскресающая природа незаметно пускает свою отравную стрелу, оставляет на лбу дитяти малаксу тайного посвящения, и столь глубоко затравливает ребенка в себя, в свою сокровенную, непостижную душу, что этот благоговейный азарт, не умирая, сходит с человеком в могилу.
Будущему государю еще в детстве покупали на птичьем рынке потешных птичек – воробьев и чечеток, синиц и зябликов: они чивкали и в Верховом Теремном саду, и в спаленке царевича. И какое же маленькое сердце не вскрикнет от восторга при виде крохотных птах, коим неустанно благоволит сам Господь и коим словно бы для того и жить назначено на белом свете, чтобы умирять от жесточи и гордыни человечью грудь. Впервые царевич пустил сокола в дивный лет на подмосковной усадьбе дядьки Бориса Ивановича Морозова, что имел богатые псарни и птичьи дворы, и с той поры стал охотником достоверным, истинным, заклятым, коий в птичьих, полевых и зверовых потехах отыскал себе высшее счастие и глубочайшее волнение. Через охоту лишь и птичьи забавы Алексей Михайлович познал Божественное естество русской природы и чувственную поэзию лесовых потех. Царя постоянно тянуло из хором на волю, на весенние пойменные бережины и травяные калтуса, на стынущие осенние поля, на зимние осеки и зверовые травли; не от царицы-государыни бежал он из Кремля, не от важных государевых дел, которым был предан неотлучно и решал их даже в Успенском соборе во время службы, окруженный ближними боярами, но сами тихие мреющие холмистые дали, густо усаженные елинниками и дубравами, дремлющие под низким, тяжело парусящим мглистым небом, неотразимо зазывали его к себе. В любую погоду, в распутье и бездорожицу царь отправлялся в подмосковные вотчинные земли московских князей, в Коломенское и Измайлово, Семеновское и Хорошево, Кунцево и Преображенское, в Тарасовку и Тонинское, в Пустынь и Рогочево. Когда и в богомолье шел государь в Троицкую лавру иль в Саввино-Сторожевский монастырь, в Боровск иль в Можайск, то и в ту пору он ловил всякий удобный случай, чтоб призамедлить в путевом Дворце иль разбить походные шатры и призабавиться соколиной иль псовой потехою. И даже в военных походах государь не позабывал об охоте, и вместе с дворцовыми поезжанами и многой челядью, с жильцами и детьми боярскими в строю ехали псовые и зверовые охотники, стремянные конюхи и сокольники со всей подобающей стряпней.
Пожалуй, это был единственный в Руси царь-охотник, царь-поэт, что душою растворился в природе. Однажды Алексей Михайлович поехал отведывать, пробовать птицу на добычах, и вот между Сущевом и Напрудным наехал он на «прыск», на наезженное, торное место, по весеннему времени еще залитое водою, и стал пробовать соколов.
«… А в длину та вода шесть сажен и поперек две сажени, да тем хорошо, что некуда соколу утекчи, нет иных водиц близко, – отписывал доверительно государь, как ровне своей, ловчему Афанасию Матюшкину, оку государеву, что ставил охоты не из страха, но из любви к делу и царю, с коим был связан не только родством, но и дружбою. – Отпустили сокола Семена Ширяева: дикомыт так безмерно каково хорошо летел, так погнал и осадил в одном конце два гнезда шилохвостей да полтретья гнезда чирят, так вдругоряд погнал, так понеслось одно утя шилохвость и милостию Божией и твоими молитвами и счастием, как он мякнет по шее, так она десятью перекинулась, да ушла теща в воду опять: так хотели по ней стрелять, почаем што худо заразил, а он ее так заразил, что кишки вон: так она поплавала немножко да побежала на берег, а сокол-то и сел на ней…»
А бывало на двух дворах кречатных в Коломенском и Семеновском селах до трех тысяч соколов, ястребов, челигов и дерлигов, и государь помнил почти всех, ибо каждой ловчей птице давал имя самолично, по характеру ее; Алексей Михайлович наказывал берегчи кречетов пуще жизни своей, и за малейшую оплошку секли виновного нещадно, как злого вора, и садили на чепь, на хлеб-воду. Якуты, что везли соколов из Сибири в царскую казну, почитали кречетов вестниками небесной воли и боялись коснуться Урун-Кири голой рукою, чтобы не оскорбить птицу. Для государя белый кречет был с юных лет как бы ровнею с ним в почестях, ибо царил в небе, как он, державный, увенчан Господом безмерной властию на земле: и потому уряжал Алексей Михаилович любимых птиц в злато-серебро, драгие бесценные каменья, в шелка и бархаты, и ежедень кормили их челядинники свежим и здоровым говяжьим, бараньим и голубиным мясом. Голуби собирались со всего государства, и крестьяне везли их в престольную в потешные дворы как бесплатную голубиную повинность. Но соколы часто болели в неволе, слепли, и дворовые знахари бывали бессильны в своем лекарском знании. Царь гневался тогда, горевал, и все новых вестников небесной воли везли податные ловчие сокольники со всех засторонков Руси…
Глава вторая
По государеву указу на Рождество надобно быть в престольной, а приволоклись христовенькие в канун Пасхи, когда уже просовы и зажоры появились на дорогах, а в низинах и вовсе кисель, заводянела, разжижла колея, хоть на телегу станови сани. Да и то сказать, не спеши, милой, загадывать, садяся в сани и прощаясь с родней: бывает и так, уселся молодцем-похвалебщиком, а привезут во гробу. Человек предполагает, а Бог располагает.
…От Мезени до Москвы не близок путь, черт мерил-мерил и веревку оборвал. Не сахарными головами вымощен, не винными чарками выставлен. Настрого заказано помытчикам вино пить на ямах и табаку курить. Весь иззябнешь, ведь не лето красное на дворе, каждый мосолик взывает о милости и ушной естве, и как бы хорошо бражнику с устатку, разморясь в тепле постоялого двора, плеснуть на каменицу, хоть бы из ковшичка пригубить стоялого меду здоровья лишь: но ни-ни, зорок косой глаз царева сокольника, сурова, ухватиста его длинная рука.
Только миновали Дорогую Гору, тут и посыпало, как из преисподней, замутовили черти небеса, наслали завируху, глаз не продрать. Встал снег ровной шумящей непродышливой стеною, и в этой замятели напозорились мужики, едва пробились сквозь тайболу до Холмогор: не раз возы опруживало на снежных сувоях, и помытчики на чем свет стоит костерили пустоголовых нерадивых ямщиков, исстрадались за укладки с птицами, а цареву сокольнику Елезару Гаврилову и вовсе страх. За каждое сроненное перо немилость государева грозит. А с ямщика что возьмешь? Он до ближнего яма занаряжен, а там выспится на печи и обратно в домы, сам себе господин. В этой завирухе влезли в Холмогоры, где за поздним временем оставили часть птиц на кречатьем дворе. Тут обоз разросся, с Тиунского и Терского берегов тоже подгадали помытчики наиманных к этому времени соколов и ястребов. На дорогах баловали лихие люди после московской чумы и гили, и холмогорский воевода Яков Тухачевский послал пятерых стрельцов в помощь для великого береженья.
И отправился обоз на Москву о край Двины машистой ступью, упаси Боже, чтоб на рысях, с великим старанием и опаскою, ибо не ведали помытчики в своей жизни больших сокровищ, чем царские ловчие птицы: ведь добрый кречет стоил больше тыщи рублей, это, почитай, годовое жалованье сотни стрельцов. На каждом яму меняли лошадей, ибо у Елезара в тайной зепи хранилась царская грамота за государевыми вислыми красными печатями, по которой с помытчиков на внутренних таможнях не взималось пошлин.
На привалах доставали из ящиков соколов, кормили свежим мясом, для чего птичьи охотники из пищалей и луков доставали коршаков, осорьев и голубей, коих водилось по лесам в великом множестве. Елезар мрачно дозирал за становьем, подскакивал к сокольникам и кричал по-пустому, в сердцах, де, пошто медленно тащатся, как покойники, да плохо следят за птицею: он боялся за молодых челигов, которые в долгом пути остерблют, перерастут, и в кречатнях служивые намучаются до слез, вынашивая их; а если наддавали ямщики ходу, то и тут Елезар бранил Кирилла Мясникова, старшего помытчика, де, пошто он худо радеет о деле и не блюдет ямщиков и возы, де, не диво, ежли на раскате розвальни опружит, кладь опрокинется и саньми передавит весь промысел. Елезар часто обгонял обоз верхи, горяча лошадь, тряс саблею в ножнах, а после неприметно опадал, успокаивался, голова скатывалась на грудь, и он, царев слуга, задремывал, опершись обеими руками на деревянную луку седла. Высоко задранные в коленях ноги, просунутые в короткие стремена, принакрывало длинными полами зипуна, и тогда походил строгий до надоедности царский посыльный на старого степного орла; помытчики хихикали в его сторону и отпускали соленых деревенских пуль.
Какие кречеты-дикомыты сильно взыгрывали, тех умиряли держанием, потчевали сквернами и водяниною, сильно вымоченной в воде бараниной, чтобы птица утратила лишнюю резвость и слушалась помытчиков.
Любим в дороге часто отворачивал край оленьей полсти и жалостно приглядывал за белым кречетом: птица нахохлилась, как старая больная курица в непогоду, хвост обвис, и перо потеряло шелковистый блеск. Где ее прежний властный постав, дикая злоба перламутровых иссиня глаз, захлебистый воинственный грудной клекот? И неуж эту падаль он, ушкуйник, поднесет в подарок любимому государю? Жалеючи, Любимко однажды вздумал на привале напустить кречета на лесового ворона, что надоедно корготал, водил круги над их становьем, выглядывая падаль, пристально озирал возы, расставленные вкруговую. Любимко уже достал кречета из ящика и повабил на кожаную рукавицу, собираясь сдернуть с лап опутенки, как тут подбежал вдруг царев спосыланный и с ходу жиганул парня плетью по спине, высек из малицы клок оленной шерсти. Крута рука у начального сокольника. Любимко поднялся на дыбки, как шатун-медведь, оскалился злобно, в крохотных сумеречных глазках сверкнула опасливая жесточь, а набитые ветром щеки полыхнули жаром от обиды. Да и то, с самого рождения никто не то чтобы не бивал, но и пальцем не задел Любимку: он уже второе лето, почитай, атаманит на Окладниковой слободке в кулачных боях, сходясь на заручьевскую стенку. А тут сыскался аред, руки распустил.
«Ты, хорек вонючий! А ну, пади ниц, пока цел! – Любимко ловко вывернул нагайку из руки сокольника, посунул кречета в лицо Елезара. – Раскрою черепушку-то, как гнидку. Выдерну руки, палки вставлю. Ишь распустил…»
Елезар отшатнулся, кровь отлила с впалого лица, и ярче вспыхнула ржавь острой, клином, бороды, и взметнулись лисьи брови. Взгляд царева слуги разбежался еще пуще, один глаз уставился на Казань, другой на Москву. Елезар задохнулся не от робости, но от растерянности, торопливо отыскивая рукоять кривой сабельки, туго всаженной в ножны. И быть бы тут беде, знамо дело! Но от своих возов уже спешили стрельцы и мезенские помытчики. Кирилл Мясников обхватил сокольника сзади, завернул руки. Частил задышливо в самое ухо:
«Батюшко, Елезар Григорьич, государь. Охолонь. Не наведи беды. Шшанок ведь. С кем связался? Дите. Мы сами его посекем».
«Сами, сами поучим», – закричали мезенцы, скрадчиво подмигивая Любимке: де, поди прочь, парень, остынь, не засти свет, бестолковый.
Любим откинул нагайку в снег, ушел за возы. Обида, не замирая, жгла сердце. Пыльное крохотное солнце едва прояснивало на мутном небе, обещало пургу. От солнца накатывала тревога. Но вот хмарь, теснившая грудь, сама собой источилась, и Любимко невольно прислушался к разговору у огнища, ловя каждое слово. Сокольник царев ярился и все еще поминал сутырливого парня, обещал навести суд:
«Конья калышка… Тьфу. – Сокольник сплюнул в снег и растер валяным пимом. Помытчики согласно загалдели. Приспела выть, уже котел-кашник с кулешом сняли с мытаря, согласно застучали ложки. – Знать, плети не пробовал, баловник. Алешка Багач не тебе ценой, молокосос… А вот эдак же напускал птицу в пути да потерял. Долго ли потерять? Взыграет – и ищи-свищи в чужих местах… Привязали Алешку к кольцу и били нещадно кнутом, да по цареву указу посадили на шесть недель в застенку, – уже успокаиваясь, досказывал сокольник артельному старосте. Тот согласно поддакивал. – Не ему цена, отелепышу. Самого Багача на цепь, сокольника первой статьи».
Не дождавшись, когда поедят толком, снова зашумел Елезар, полез на коня, наискивая стремя. К ночи надо попасть на ям.
«А ну в путь!.. Трогай, трогай!.. Разворачивай возы!..»
Мужики у костра спешно доели кулеш, собрали путевые пожитки, осмотрели табор, не забыли ли чего. Старшой подошел, на правах артельного старосты загундел Любимке, сам побаиваясь его кованых кулаков, известных на слободке:
«Ты иди… помирись… Скажи: прости. От тебя не отвалится. Поди, Богом прошу. Еще сколько до престольной попадать. Заест ведь, как вша. Кликнет „слово и дело“, раскатают на кобыле за озорство. Ну, поди, поди, Любимушко, не противься… Я тебе кулешу приспел. Поторопись, пока горячий. Поснедаешь дорогой. Ну?!» Артельщик подтолкнул Любимку в спину, тот, волоча ноги, нехотя, как на смерть, потащился в голову обоза, где маячил верховой сокольник. Помытчики, ухмыляясь, отворачивались, будто не видели Любимкиного позора. Парень подошел с завитерья, притерся к заиндевелому крупу коня, буркнул в немую спину сокольника, туго перехваченную ремнем, в островерхий кожаный башлык:
«Ну ты, дядько, слышь? Ты прости, коли… Я тебе еще сгожуся. Ты побей меня, потешься. Только не держи сердца». Любимко покорно сронил голову в заячьем треухе. Уж больно ему хотелось в престольную.
«Шшанок. Видит Бог, лишь за-ради батьки твово прощаю, – Елезар не глядя, с разворота хлестко ударил нагайкой по плечам, перетянул по спине, но уже незлобиво, с ленивым протягом, больше для острастки, для прилики, чтобы неповадно было шалить обозникам и стрельцам в походе. Де, царев он человек, Елезар Гаврилов, в важной государевой посылке, и баловать с ним не след, себе дороже. Проскрипел: – Больше не шути, потаковник. Негоже». Сокольник потуже надвинул на брови малахай, подбитый белкой, и стал походить на татарина. На ржавых усах его мелькнуло подобие улыбки.
И уже с легкой грудью, с какой-то сердечной радостью повалился Любимко в розвальни, надвинул на голову маличный куколь, повыше к рассохам натянул домотканые трубы походных катанок и понюгнул лошадь. И блеснула молочно-белая зернь зубов в кудрявой поросли бороды, и затянул парень что-то протяжное, поморское про шальную молодецкую голову. Все было внове Любимке, все в науку, в Божий промысел и старательский розмысл. Взвизгнули пристывшие к ледыхам полозья, заскрипели обвязки саней, захрустела обмерзшая шлея, тепло ударило в лицо лошажьим потом. Закрой глаза, и поволокет в тягучий дурман. Как в зыбке на очепе, с раската на раскат: скрип-скрип… Открыл глаза, а пред твоим взглядом все те же плавно ступающие мохнатые, в морозном куржаке ноги, изредка бьющие в передний щит розвальней. Тянутся, набегая и вновь отступая, лога и распадки, густо изброженные лесовым зверьем и птицею, всклень налитые синевой; неожиданная церковка на холме, серенькое сгрудившееся стадо избенок, пригнетенных снегом, погост, убродная сажная тропка к реке на иордан, иль к мовной прорубке, серый креж крутого берега с глыбами ледяных стамух, вставших торчком, зеленых на стеклянном изломе, витой легкий пар из рыбацких майн, где, скрючившись, колготятся с неводом мужики. Гос-по-ди-и, как славно-то! Будто из дому не выезжал: все так знакомо. И месяц тащись по земле, и другой – и все Русь, и нет ей конца! Этой мыслью впервые ознобило Любимку, и он чуть не вскричал от неожиданного открытия и от восторга, что распер грудь…
Под Красным Бором выбрел на дорогу лядащий мужичонко, то ли погорелец, иль гулящий какой, иль калика перехожий: был он в дерюжном коричневом понитке и валяном колпаке, в разношенных катанцах и с тощей кошулей за плечами. Он встал о край дороги и, пока проходил обоз, истово крестился и причитал: «Христа ради, приберите немощного, не оставьте помирать». На сером сморщенном лице его с кудлатой серой же бороденкой, казалось, уже отпечаталась близкая смерть. Куда попадал юродивый, Бог весть, но он, как чертополошина, торчал вот посреди снежной пустыни и готов был пасть под первым же порывом падеры; а ветер к вечеру уже заподымался, потянулись по равнине снежные хвосты, поносуха обвивала искристыми змеями путника, утопшего по колени, свивалась кольцами, погребая в стылом своем чреве. Бесы скакали по бережине о край Двины, дули в кулак и присвистывали, пристанывали злорадно, наводя испуг, прибирали в могилу всякого, кто насмелился об эту пору оказаться один в лесном засторонке… Елезар проехал мимо, отвернувшись, крупом лошади оттер милостынщика глубже в забой: не велено царевым указом подбирать в обоз с птицею сторонних людей; после сокольник остановился и придирчиво, помахивая нагайкой, просмотрел весь обоз, чтобы кто не сжалился случаем над путником. Вот и последние сани поползли прочь; Любимко лежал, укрывшись в оленный совик, и вдруг, случайно обернувшись, запоздало увидел одинокую будылину: старик обреченно стоял, опершись на батожок, и криво скусывал с усов намерзшие ледыхи.
«Ты чего, батько, заблудился?» – крикнул Любимко навстречу нарастающему сиверику и захлебнулся ветром. Старик с виноватою улыбкой вяло пожал плечами, вышел на середку санного пути и тихо поплелся следом. Только что день вроде был, а тут разом сизой пылью осыпало снега, потускла небесная лампада, и мигом все смерклось, и в небе встали закатные огненные крылья. «Живая душа ведь, – подумалось мельком, – что ли, пропадать ему?» …Эх, молодо-зелено, что замыслил опять? знать, не плясало лихо на твоих негнучих налитых плечах? Давно ли обозного старшинку довел проказами, неслух, и вот снова на беду нарываешься? Остерег скользнул сторонне, как бы для другого, но так зажалелось внезапно вовсе чужого случайного путника. Любимко натянул вожжи: «Прискакивай, Божий человек! Шатун, коневал иль от бабы сбег?» – «Да не-е, я сам по себе. Храни тебя Господь, сынок».
Странник устало, боком завалился в розвальни, на край оленной полсти, а сил уволочься повыше на кладь уже и не нашлось – так разбила дорога сердешного. Не успели разговориться, как подскакал целиною царский сокольник, зычно вскричал, сердито встопорщил усы. На Любимку и не глянул:
«Чей будешь? Лихой иль беглый?»
«Инок я. Зинон, – неожиданно звонко, текуче ответил странник. – От соловецкой братии спосылан с наказом дойти до государя и пасть пред очии. Вот и бумага подорожная выправлена игуменом Досифеем. – Мужичонко полез за пазуху, долго копался там, нашаривая, синие губы выбивали дробь. Забормотал, пряча взор: – Кабы гулящий иль вор, то был бы сечен да увечен. А я, как гривна царская, без щербин». Широкий рукав понитка задрался, заголилось худое запястье: зоркий глаз сокольника даже в сумерках чудом поймал натертый след, какой бывает у колодников.
«А это че?» – ткнул рукоятью плетки, резко склонившись с седла. Но путник не смутился, без запинки ответил:
«Да игумен было ссаживал в тюрьму… За истину бились, собачились. Не дай погибнуть, господине, не гони. Зачтется на том и этом свете».
Вроде бы и просил мужичонко, прискучивая, но в голосе почудилась насмешка. Елезар привстал на стременах, покрутил головою в потемни, будто испрашивая у кого совета, но с молодым помытчиком связываться не стал, помня недавнюю прю.
«Смотри, парень. На тебе грех. Башкой ответишь мне, ежли что».
Стеганул коня нагайкой и ускакал. Обоз скоро стерся в ночной наволочи, как бы скрылся за каменную стену. И странно было слышать средь снежной тайболы дальний перелив поддужных колокольчиков. Будто ангелы на свирели играли.
«На ём грех-от, на ём. А за тобой святая правда. Дай тебе Бог здоровья, родименькой», – сказал старичонко и освобоженно вздохнул, заелозил, укладываясь, переполз повыше на кладь. Его все еще знобило. Любимко накинул на инока край одевальницы, подоткнул с боков. Со всех сторон надвинулась аспидная морозная темь, уже звезды ярко затеплились, и едва мерещилась отбегающая прочь дорога, отблескивающая зальдившимся санным следом. Третий час ночи, а как пред утром.
«Чей будешь-то? Чьих отца с матерью?» – спросил инок, когда отмолчались. От него нанесло по ветру постом и елеем: так же свято пахло, бывалоче, от брата Феодора. Любимко сразу вспомнил дом родимый, схоронившийся за дальними волоками.
«С Мезени мы, батюшко... С Окладниковой слободки попадаем с птицею до самого царя, – ответил, гордясь. И тут Любимку осенило, что старик-то с благословенного острова. – Слушай, отче, а ты случаем не знавал тамотки Феоктиста, будильщика такого?»
«Да как не знал, родимой. В келье одной жили. Крутой веры человек…»
«Да это брат мой! – вскрикнул Любимко. От такого известия он как бы сразу породнился с богомольником. – Ну ты даешь. Чего сразу-то не открылся?»