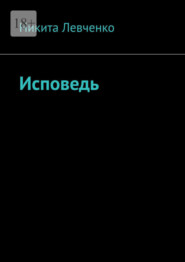скачать книгу бесплатно
Исповедь
Никита Левченко
Цирк самоненависти. Цирк боли. Цирк скорби. В программе только один номер и только один персонаж на весь покрытый плесенью шатер. Присаживайтесь поудобнее, ведь такой наготы души вы ещё никогда не видели. Он выходит на арену, а в последнем ряду сидит он. Тыкает пальцем на себя и хлопает в ладоши. Такой смешной!!! Такой глупый!!! Книга содержит нецензурную брань.
Исповедь
Никита Левченко
© Никита Левченко, 2022
ISBN 978-5-0056-8152-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ТРЕТИЙ ЗВОНОК
Представь, что ты выпустишь свои текста в восемнадцать лет в память о себе.
Надеюсь, для траура?
Я никогда не хотел создавать свою книгу. Я никогда не хотел показывать своих детей. Я никогда не хотел, чтобы мои чёрные буквы на белом фоне вызывали у людей выброс нейромедиаторов.
И что мы имеем? Я выпускаю собственный сборник, чтобы те, кто будет читать его, всегда помнили того самого странного безэмоционального мальчишку с серыми глазами, царапиной на левом предплечье и грызущими его внутри демонами.
Добро пожаловать в липкий мир страхов, надежд и расплывающихся аллегорий. Попробуй выжить, будучи уже мёртвым.
АКТ I. ОТРИЦАНИЕ
Стойкий запах железа в комнате.
Как бы ты не старался, но не получится заткнуть эхо криком.
Не запнись, перешагивая через себя.
Январь.
Вновь потерял близкого человека
«Бледность – удел аристократов» – всегда с улыбкой говорила ты, когда мы прогуливались по саду. Солнце грело, жучки стрекотали, ветерок обдувал. Ты срывала цветы и собирала букет, которые позже я увижу в хрустальной вазе, стоящей на столе.
Листочки красные, жёлтые, оранжевые. Мёд золотой, тягучий. Ты сидишь в саду и читаешь Трумена Капоте. Изредка морщишься, когда не понимаешь то или иное предложение. Улыбаешься мне, когда я приношу тебе яблочный сок. За сок ты потом подаришь мне гербарий, и мы повесим чужие листочки и цветочки в рамках на стену. И будем любоваться ими.
Зимой было страшно. Я грел тебя изо всех сил. Ты постоянно жалась ко мне и тряслась от холода. За окном была сильная вьюга и как только завывало – ты вздрагивала и утыкалась мне в плечо. Когда ты засыпала, я уходил ненадолго – боялся, что ты замёрзнешь. Я отходил, чтобы поставить чайник. Ты очень любила чёрный чай.
Пруд. «В нём нет рыб, но я бы хотела, чтобы они там были. Большие, маленькие, серебряные, тёмные, цветные» – разговаривала со мной ты, глядя в пустующий пруд. Я всё хотел купить или выловить сам рыбок, чтобы ты любовалась ими. Мне нужна была твоя улыбка. Мне было жизненно необходимо видеть её.
Февраль.
Пью Феназепам, но не помогает
Весна вызывает чувство страха и тревоги. Мне хочется свернуться комочком и ничего не делать. Я не хочу слышать пение птиц, видеть всю эту мерзкую оттепель. Холодный ветер заставляет меня вздрагивать, когда задувает под куртку, и я тихо ругаюсь из-за этого.
Лишний раз прислоняю голову к стеклу и вздыхаю. Я правда не хочу весны. Чувство одиночества будет нарастать с каждым днём. Царапины на руках будут глубже и шире. Пить таблетки. Таблетки. Успокоительные, антидепрессанты, да что угодно! Таблетки! Буду пить таблетки в надежде, что когда-нибудь я словлю передозировку и весна для меня не настанет.
Но если будет слишком поздно? Если я умру в середине весны? Тогда она будет вечная. Вечные слёзы и вечное одиночество. Сердце давит, грудину рвёт на части, будто что-то сидит внутри и хочет вырваться.
Я хочу кричать, чтобы сорвать нахрен связки. Не хочу весны. Мне страшно. Я боюсь.
Июнь.
Я смотрю кино про себя, в котором я смотрю кино
Он заперт в своём сознании и изо дня в день сматывает старую кассету с потёртой надписью «Жизнь», которая написана чьим-то корявым почерком – не его. «Жизнь» уже не кажется ему таким хорошим фильмом, что вечно заканчивается на интересных моментах из-за того, что старый видеомагнитофон зажевал плёнку. Надоевшая кассета летит в стену и, уцелев, падает на деревянный пол. Он закуривает в четырёх стенах, оклеенных оранжевыми обоями с раздражающим узором.
«Жизнь» вновь мотается умелыми руками, которые отлично орудуют обгрызенным карандашом. Он уже не хочет злиться – устал.
Он заперт в картонной симуляции с куклами, которыми управляет умелый кукловод. Але-оп! Хлоп-хлоп-хлоп. Картон начал покрываться плесенью. Кажется, что вот-вот декорации упадут и он наконец-то стряхнёт пепел на мать, притопчет его ногой и пойдёт дальше.
Но куда это?
Куда дальше?
Клетка открыта, окно выбито, картонные стены упали, стекло треснуло и разбилось на тысячи маленьких осколков. Но он не идёт. Он сидит и мотает осточертевшую ему кассету с потёртой надписью «Жизнь».
Я видел всё. Я не пойду. Сценарий передо мной. Я боюсь умирать. Я смогу изменить свою жизнь.
Я боюсь умирать в одиночестве.
Непотушенная сигарета, выпавшая изо рта, зажигает деревянный пол.
Это сценарий другой жизни.
Июль.
Мы все – муравьи
Она смотрит на его белоснежную на солнце кожу. Даже сейчас, когда опасаться уже поздно, она дрожит перед ним. Ноги совсем не держат, и она падает к нему – не прижимается. Пару минут молчит, охваченная шелестом высоких деревьев, а затем запускает пятерню в густые тёмно-русые волосы, борясь с внутренней собой.
Я пришла. Хотела никогда не прийти сюда.
Слова роняются на землю большими каплями боли и страха. Не выдержав гляделок со смертью, она поднимает потухшие очи к небу. Тёмные облачка играют в чехарду.
Я не хочу ничего говорить.
Слёзы подступают к горлу, когда в ответ ей не раздаётся низкий озлобленный мужской голос. Она хочет услышать его снова. Хочет ещё раз вцепиться в запястья рук, что держали её шею получше затянутой петли.
Ты мучил меня, но свободу получил почему-то ты, оставив меня одну вспоминать кровавые углы нашего дома.
Вдруг ей резко захотелось прижаться к белому кресту и поцеловать позолоченного Иисуса в его святую макушку, но воспоминания топят её, словно новорожденных слепых котят в холодном глубоком озере.
Я знаю, что мы связаны красной нитью. Ты нас связал. Она отравляет меня. Ты не представляешь сколько раз я пыталась перерезать эту нить, но ты всегда заламывал мне руки.
Она вздрагивает, когда большая чёрная ворона, глядя на неё бесноватым зрачком, каркает. Она быстро встаёт, осознавая, что ворона очень похожа на лежащего в утробе матери. Она решает делать то, что всегда пыталась сделать, но ей постоянно что-то или кто-то мешал. Если бы можно было, то она бы закрыла калитку оградки на защёлку, чтобы он не вернулся за ней ночью, но оградки нет.
На выходе она оборачивается на толпу прогнивших трупов и среди них замечает его. Высокий мужчина с чёрными, как ночь, волосами и карими глазами, стоящий у белого безымянного креста, заваленного траурными венками, без оградки. На лице его полуулыбка, а в виске дыра.
Я люблю тебя, но я боюсь тебя, милый.
Август.
Наконец-то свободен
В той же одежде и лицо одинаковое.
Парень ходит по кругу, расчерченному белыми маленькими кристаллами. Он ходит, мотая по кругу каждодневную до тошноты рутинную запись своей жизни. Вдруг спотыкается, падает и занюхивает тонкую струну поддельной радости.
Эйфория. Экстаз. Счастье. Его тонкие пальцы впиваются в свои хрупкие плечи. Он до крови вгрызается в бледную кожу. Головокружение. Лёгкость. Он кружится в пьяном вальсе, держа смерть за костлявую талию. Музыка играет быстрее, нагоняя темп. Раз-два-три. Раз-два-три. Раз-два-три. Раз-два-три. Вокруг люди, но он их не замечает – все смазанные до ужаса.
В той же одежде и лицо одинаковое.
Свет выключается. Музыка прекращается. Парень падает на спину и открывает глаза. Он пытается встать, и его вырывает на прожжённый бабушкин ковёр, который он никогда не вернёт ей. Дикая головная боль. Такая боль что от безнадёжности сжимается челюсть, пытаясь заглушить боль болью. Он кого-то зовёт. Слова не хотят звучать правильно. Их будто кто-то снял, а вывернуть забыл.
Он еле доползает до кухни и запивает мутной водой какую-то таблетку, надеясь, что это был обезбол. Потом оборачивается и в отражении грязного зеркала видит себя. Худого, бледного, опухшего.
Красивого.
В той же одежде и лицо одинаковое.
Декабрь.
На руках у меня засыпай
Она плачет навзрыд, в грязные ладони собирая бриллиантовые слёзы. Она совершенно не понимает, что делает. Она совершенно не думает ни о чём. Она совершенно тупая и мерзкая.
Хрущёвская квартира. Накурено. Густой дым, как молочная пенка, застилает глаза. На кухне одиноко болтается лампочка. У ножки стола стоят три пустые бутылки водки. На плите стоит белый чайник-свистулька с нарисованными на нём рыжими цветами.
Только он и она.
Она за столом с бутылкой водки – гасит разум сильными размеренными ударами. Он в туалете – пытается реанимировать давно умерший голос души. Мученица за стеклом серванта отчаянно просит Бога выколоть ей глаза. Но и он, и она заняты лишь собою.
На балконе пластиковое дно с морем, чьи просторы бороздят разбухшие бычки. Это пластиковое дно – единственное, чем они дорожат. Больше ничем и никем.
Только пепельным морем и неудачным «спасательным» окурком.
Он возвращается на родной стул, вдоволь нахлебавшись ржавой воды. Она смотрит на него вся в слезах. Она медленно сползает со стула и на четвереньках, шатаясь, аллюром приближается к нему. Она проводит рукой, охваченной тремором, по его выпирающим венам, а затем аккуратно переносит его руки на шею с синяками.
Сидит у его ног, как брошенная псина.
Молчат.
Она надеется, что он станет маяком в этом шторме.
Он надеется поскорее влить стопку.
Она не отпускает его руки.
Он хочет водки.
Она удерживает его, наматывает поводок на тонкую кисть.
Он зубами обгрызает руку, что кормит его.
Она наслаждается, упивается.
Ведь с ним она в безопасности.
Ведь он может её защитить от любого.
Кроме самой себя.
Сделал дело – гуляй смело. Наконец-то обжигающая жидкость ползёт по стенкам горла.
А дальше гниль.
Красный крест.
И чёрная решётка.
В прощальной записке он напишет, что в тюрьме нет пластикового дна для сигаретных концов, а у них на балконе оно было. Только курила лишь она одна.
Умереть ему будет не суждено – сокамерники перехватят.
Он так и останется тем самым мягким «LD», который нечаянно упал в бескислородное море.
И распух.
Декабрь.
Кому ты нужен?
Смотрят. Неуверенно – он, более смело – она.
Словно острой струёй потекла по паркету вода.
Парфюм душит. Вкус дешевизны
Впитали губы вкуса бездны.
Походкой уставшего офицера,