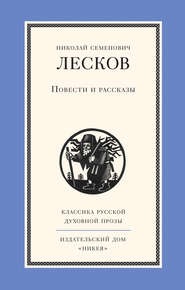
Полная версия:
Повести и рассказы

Николай Семенович Лесков
Повести и рассказы
Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви ИС Р14-409-0938
Текст печатается по изданию:
Лесков Н. С. Собр. соч.: В 6 т. Москва: Правда, 1973.
Предисловие
Николай Семенович Лесков родился 4 февраля 1831 года в Орловской губернии. «Род наш, собственно, происходит из духовенства…. Мой дед, священник Димитрий Лесков, и его отец, дед и прадед – все были священниками в селе Лесках. От этого села Лески и вышла наша родовая фамилия – Лесковы».
Однако отец писателя, Семен Дмитриевич, окончив семинарию, решил не продолжать семейную традицию, за что дед выгнал его из дома (черты деда проявятся в главном герое романа «Соборяне», протоиерее Савелии Туберозове). Выбрав карьеру судебного служащего, Семен Дмитриевич всю жизнь оставался человеком честным, бескорыстным, на службе отличался «твердостью убеждений, из-за чего наживал себе очень много врагов», и дослужился до чина коллежского асессора, дававшего право на потомственное дворянство.
Лесков отмечал в своей автобиографии: «Религиозность во мне была с детства, и притом довольно счастливая, то есть такая, какая рано начала во мне мирить веру с рассудком. Я думаю, что и тут многим обязан отцу. Матушка была тоже религиозна, но чисто церковным образом, – она читала дома акафисты и каждое первое число служила молебны и наблюдала, какие это имеет последствия в обстоятельствах жизни. Отец ей не мешал верить, как она хочет, но сам ездил в церковь редко и не исполнял никаких обрядов, кроме исповеди и святого причастия… Он несомненно был верующий и христианин, но если бы его взять поэкзаменовать по катехизису Филарета, то едва ли можно было его признать православным.»
О своей первой встрече с большой с литературой он вспоминал так: «В деревне я жил на полной свободе, которой пользовался как хотел. Сверстниками моими были крестьянские дети, с которыми я и жил и сживался душа в душу. Простонародный быт я знал до мельчайших подробностей и до мельчайших же оттенков понимал, как к нему относятся из большого барского дома, из нашего «мелкопоместного курничка», из постоялого двора и с поповки. А потому, когда мне привелось впервые прочесть «Записки охотника» И. С. Тургенева, я весь задрожал от правды представлений и сразу понял, что называется искусством».
Николай Семенович сначала пошел по стопам отца – в 16 лет он поступил на работу в орловскую судебную палату. Еще через два года его перевели в Киев, где он посещал вольнослушателем лекции в университете, изучал польский язык, участвовал в религиозно-философском студенческом кружке и даже увлекся иконописью. Уволившись со службы, Лесков начал работать в компании мужа своей тети, А. Я. Шкотта (Скотта), «Шкотт и Вилькенс». По служебным делам ему приходилось много ездить по Российской Империи. Позже он напишет: «Думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народа по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе…»
После того как компания закрылась, Лесков переехал в Петербург. Там и началась его писательская карьера. В 1863 году выходят его первые повести «Житие одной бабы» и «Овцебык». Вскоре за ними последовали «Леди Макбет Мценского уезда» и «Воительница». Уже в этих ранних произведениях проявился уникальный сказовый стиль писателя. Наиболее выразительное воплощение лесковский «сказ» получил в рассказе «Запечатленный ангел», где слышатся отзвуки древнерусских «хождений» и сказаний о чудотворных иконах.
Ко времени создания романа «Соборяне» (1872 г.), по словам Максима Горького, «литературное творчество Лескова. становится яркой живописью или, скорее, иконописью». Создание галереи ярких положительных персонажей было продолжено писателем в сборнике рассказов, вышедшем под общим названием «Праведники» («Фигура», «Человек на часах», «Несмертельный Голован» и др.) Как отмечали впоследствии критики, лесковских праведников объединяют «прямодушие, бесстрашие, обостренная совестливость, неспособность примириться со злом».
Согласно воспоминаниям сына писателя, Андрея Николаевича Лескова, Николай Семенович считал, что, создавая циклы о «русских антиках», исполняет гоголевское завещание из «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «Возвеличь в торжественном гимне незаметного труженика». В предисловии к первому из этих рассказов, «Однодум», писатель так объяснил их появление: «Ужасно и несносно… видеть одну „дрянь“ в русской душе, ставшую главным предметом новой литературы, и. пошел я искать праведных.»
В этом «поиске праведных» Николай Семенович неоднократно обращался и к сюжетам из «Пролога». «Пролог» – название сборника христианских притч, пришедшего к нам из Византии и дополненного новыми сюжетами во времена Древней Руси. Писатель изложил многие истории из «Пролога» литературным языком XIX века, а кроме того, и сам создал множество сюжетов, которые по праву можно назвать «Современным Прологом». Каждое из этих произведений раскрывает перед читателем, как Господь Своим Промыслом, порой через тяжелые испытания, приводит людей к спасению и пониманию евангельской истины.
В последние годы жизни Николай Семенович стал близким другом Льва Николаевича Толстого, что отразилось и на его творчестве, и на отношении к Православной Церкви. Однако, в отличие от Толстого, Лесков до конца жизни остался православным христианином.
Умер Николай Семенович Лесков 5 марта 1895 года от приступа астмы, мучившей его последние пять лет жизни. Похоронен на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге.
Евгений Юферев
Запечатленный ангел
1Дело было о Святках, накануне Васильева вечера [1].
Погода разгулялась самая немилостивая. Жесточайшая поземная пурга, из тех, какими бывают славны зимы на степном Заволжье, загнала множество людей в одинокий постоялый двор, стоящий бобылем среди гладкой и необозримой степи. Тут очутились в одной куче дворяне, купцы и крестьяне, русские, и мордва, и чуваши. Соблюдать чины и ранги на таком ночлеге было невозможно: куда ни повернись, везде теснота, одни сушатся, другие греются, третьи ищут хотя маленького местечка, где бы приютиться; по темной, низкой, переполненной народом избе стоит духота и густой пар от мокрого платья. Свободного места нигде не видно: на полатях, на печке, на лавках и даже на грязном земляном полу – везде лежат люди. Хозяин, суровый мужик, не рад был ни гостям, ни наживе. Сердито захлопнув ворота за последними добившимися на двор санями, на которых приехали два купца, он запер двор на замок и, повесив ключ под божницею, твердо молвил:
– Ну, теперь кто хочешь, хоть головой в ворота бейся, не отворю.
Но едва он успел это выговорить, сняв с себя обширный овчинный тулуп, перекрестился древним большим крестом [2] и приготовился лезть на жаркую печку, как кто-то робкою рукой застучал в стекло.
– Кто там? – окликнул громким и недовольным голосом хозяин.
– Мы, – ответили глухо из-за окна.
– Ну-у, а чего еще надо?
– Пусти, Христа ради, сбились… обмерзли.
– А много ли вас?
– Не много, не много, восемнадцатеро всего, восемнадцатеро, – говорил за окном, заикаясь и щелкая зубами, очевидно совсем перезябший человек.
– Некуда мне вас пустить, вся изба и так народом укладена.
– Пусти хоть малость обогреться!
– А кто же вы такие?
– Извозчики.
– Порожнем или с возами?
– С возами, родной, шкурье везем.
– Шкурье! шкурье везете, да в избу ночевать проситесь. Ну, люди на Руси настают! Пошли прочь!
– А что же им делать? – спросил проезжий, лежавший под медвежьей шубой на верхней лавке.
– Валить шкурье да спать под ним, вот что им делать, – отвечал хозяин и, ругнув еще хорошенько извозчиков, лег недвижимо на печь.
Проезжий из-под медвежьей шубы в тоне весьма энергического протеста выговаривал хозяину на жестокость, но тот не удостоил его замечания ни малейшим ответом. Зато вместо его откликнулся из дальнего угла небольшой рыженький человечек с острою, клином, бородкой.
– Не осуждайте, милостивый государь, хозяина, – заговорил он, – он это с практики берет и внушает правильно – со шкурьем безопасно.
– Да? – отозвался вопросительно проезжий из-под медвежьей шубы.
– Совершенно безопасно-с, и для них это лучше, что он их не пускает.
– Это почему?
– А потому, что они теперь из этого полезную практику для себя получили, а между тем если еще кто беспомощный добьется сюда, ему местечко будет.
– А кого теперь еще понесет черт? – молвила шуба.
– А ты слушай, – отозвался хозяин, – ты не болтай пустых слов. Разве супостат может сюда кого-нибудь прислать, где этакая святыня? Разве ты не видишь, что тут и Спасова икона, и Богородичный лик.
– Это верно, – поддержал рыженький человечек. – Всякого спасенного человека не ефиоп ведет, а ангел руководствует.
– А вот я этого не видал, и как мне здесь очень скверно, то и не хочу верить, что меня сюда завел мой ангел, – отвечала словоохотливая шуба.
Хозяин только сердито сплюнул, а рыжачок добродушно молвил, что ангельский путь не всякому зрим и об этом только настоящий практик может получить понятие.
– Вы об этом говорите так, как будто сами вы имели такую практику, – проговорила шуба.
– Да-с, ее и имел.
– Что же это: вы видели, что ли, ангела, и он вас водил?
– Да-с, я его и видел, и он меня руководствовал.
– Что вы, шутите или смеетесь?
– Боже меня сохрани таким делом шутить!
– Так что же вы такое именно видели: как вам ангел являлся?
– Это, милостивый государь, целая большая история.
– А знаете ли, что тут уснуть решительно невозможно, и вы бы отлично сделали, если бы теперь рассказали нам эту историю.
– Извольте-с.
– Так рассказывайте, пожалуйста: мы вас слушаем. Но только что же вам там на коленях стоять, вы идите сюда к нам, авось как-нибудь потеснимся и усядемся вместе.
– Нет-с, на этом благодарю-с! Зачем вас стеснять, да и к тому же повесть, которую я пред вами поведу, пристойнее на коленях стоя сказывать, потому что это дело весьма священное и даже страшное.
– Ну как хотите, только скорее сказывайте: как вы могли видеть ангела и что он вам сделал?
– Извольте-с, я начинаю.
2Я, как несомненно можете по мне видеть, человек совсем незначительный, я более ничего, как мужик, и воспитание свое получил по состоянию, самое деревенское. Я не здешний, а дальний, рукомеслом я каменщик, а рожден в старой русской вере. По сиротству моему я сызмальства пошел со своими земляками в отходные работы и работал в разных местах, но все при одной артели, у нашего же крестьянина Луки Кирилова. Этот Лука Кирилов жив по сии дни: он у нас самый первый рядчик. Хозяйство у него было стародавнее, еще от отцов заведено, и он его не расточил, а приумножил и создал себе житницу велику и обильну, но был и есть человек прекрасный и не обидчик. И уж зато куда-куда мы с ним не ходили? Кажется, всю Россию изошли, и нигде я лучше и степеннее его хозяина не видал. И жили мы при нем в самой тихой патриархии, он у нас был и рядчик, и по промыслу, и по вере наставник. Путь свой на работах мы проходили с ним, точно иудеи в своих странствиях пустынных с Моисеем, даже скинию [3] свою при себе имели и никогда с нею не расставались: то есть имели при себе свое «Божие благословение». Лука Кирилов страстно любил иконописную святыню, и были у него, милостивые государи, иконы всё самые пречудные, письма самого искусного, древнего, либо настоящего греческого, либо первых новгородских или строгановских изографов [4]. Икона против иконы лучше сияли не столько окладами, как остротою и плавностью предивного художества. Такой возвышенности я уже после нигде не видел!
И что были за во имя разные и Деисусы [5], и Нерукотворенный Спас с омоченными власы, и преподобные, и мученики, и апостолы, а всего дивнее многоличные иконы с деяниями, каковые, например: Индикт [6], праздники, Страшный суд, Святцы, Соборы, Отечество [7], Шестоднев, Целебник [8], Седмица с предстоящими; Троица с Авраамлиим поклонением у дуба Мамврийского [9], и, одним словом, всего этого благолепия не изрещи, и таких икон нынче уже нигде не напишут, ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Палихове; а о Греции и говорить нечего, так как там эта наука давно затеряна. Любили мы все эту свою святыню страстною любовью, и сообща пред нею святой елей теплили, и на артельный счет лошадь содержали и особую повозку, на которой везли это Божие благословение в двух больших коробьях всюду, куда сами шли. Особенно же были при нас две иконы, одна с греческих переводов старых московских царских мастеров: Пресвятая Владычица в саду молится, а пред Ней все древеса кипарисы и олинфы [10] до земли преклоняются, а другая Ангел-Хранитель, Строганова дела. Изрещи нельзя, что это было за искусство в сих обеих святынях! Глянешь на Владычицу, как пред Ее чистотою бездушные древеса преклонились, сердце тает и трепещет; глянешь на ангела… радость! Сей ангел воистину был что-то неописуемое. Лик у него, как сейчас вижу, самый светлобожественный и этакий скоропомощный; взор умилен; ушки с тороцами [11], в знак повсеместного отвсюду слышания; одеянье горит, рясны [12]златыми преиспещрено; доспех пернат [13], рамена [14]препоясаны; на персях младенческий лик Эмануилев; в правой руке крест, в левой огнепалящий меч. Дивно! дивно!.. Власы на головке кудреваты и русы, с ушей повились и проведены волосок к волоску иголочкой. Крылья же пространны и белы как снег, а испод лазурь светлая, перо к перу, и в каждой бородке пера усик к усику. Глянешь на эти крылья, и где твой весь страх денется: молишься «осени», и сейчас весь стишаешь, и в душе станет мир. Вот это была какая икона! И были-с эти два образа для нас все равно что для жидов их святая святых, чудным Веселиила [15] художеством изукрашенная. Все те иконы, о которых я вперед сказал, мы в особой коробье на коне возили, а эти две даже и на воз не поставляли, а носили: Владычицу завсегда при себе Луки Кирилова хозяйка Михайлица, а ангелово изображение сам Лука на своей груди сохранял. Был у него такой для сей иконы сделан парчовый кошель на темной пестряди [16] и с пуговицей, а на передней стороне алый крест из настоящего штофу [17], а вверху пришит толстый зеленый шелковый шнур, чтобы вокруг шеи обвесть. И так икона в сем содержании у Луки на груди всюду, куда мы шли, впереди нас предходила, точно сам ангел нам предшествовал. Идем, бывало, с места на место, на новую работу степями, Лука Кирилов впереди всех нарезным сажнем вместо палочки помахивает, за ним на возу Михайлица с Богородичною иконой, а за ними мы все артелью выступаем, а тут в поле травы, цветы по лугам, инде стада пасутся, и свирец на свирели играет… то есть просто сердцу и уму восхищение! Все шло нам прекрасно, и дивная была нам в каждом деле удача: работы всегда находились хорошие; промежду собою у нас было согласие; от домашних приходили всё вести спокойные; и за все это благословляли мы предходящего нам ангела, и с пречудною его иконою, кажется, труднее бы чем с жизнию своею не могли расстаться.
Да и можно ли было думать, что мы как-нибудь, по какому ни есть случаю, сей нашей драгоценнейшей самой святыни лишимся? А между тем такое горе нас ожидало, и устроялось нам, как мы после только уразумели, не людским коварством, а самого оного путеводителя нашего смотрением. Сам он возжелал себе оскорбления, дабы дать нам свято постичь скорбь и тою указать нам истинный путь, пред которым все, до сего часа исхоженные нами, пути были что дебрь темная и бесследная. Но позвольте узнать: занятна ли моя повесть и не напрасно ли я ею ваше внимание утруждаю?
– Нет, как же, как же: сделайте милость, продолжайте! – воскликнули мы, заинтересованные этим рассказом.
– Извольте-с, послушествую вам и, как сумею, начну излагать бывшие с нами дивные дивеса от ангела.
3Пришли мы для больших работ под большой город, на большой текучей воде, на Днепре-реке, чтобы тут большой и ныне весьма славный каменный мост строить. Город стоит на правом, крутом берегу, а мы стали на левом, на луговом, на отложистом, и объявился пред нами весь чудный пеозаж: древние храмы, монастыри святые со многими святых мощами; сады густые и дерева таковые, как по старым книгам в заставках пишутся, то есть островерхие тополи. Глядишь на все это, а самого за сердце словно кто щипать станет, так прекрасно! Знаете, конечно, мы люди простые, но преизящество богозданной природы все же ощущаем.
И вот-с это место нам так жестоко полюбилось, что мы в тот же самый в первый день начали тут постройку себе временного жилища, сначала забили высоконькие сваечки, потому что место тут было низменное, возле самой воды, потом на тех сваях стали собирать горницу, и при ней чулан. В горнице поставили всю свою святыню, как надо, по отеческому закону: в протяженность одной стены складной иконостас раскинули в три пояса, первый поклонный для больших икон, а выше два тябла [18] для меньшеньких, и так возвели, как должно, лествицу до самого распятия, а ангела на аналогии [19] положили, на котором Лука Кирилов Писание читал. Сам же Лука Кирилов с Михайлицей стали в чуланчике жить, а мы себе рядом казаромку сгородили. На нас глядючи, то же самое начали себе строить и другие, которые пришли надолго работать, и вот стал у нас против великого основательного города свой легкий городок на сваях. Занялись мы работой, и пошло все как надо! деньги за расчет у англичан в конторе верные; здоровье Бог посылал такое, что во все лето ни одного больного не было, а Лукина Михайлица даже стала жаловаться, что сама, говорит, я не рада, какая у меня по всем частям полнота пошла. Особенно же нам, староверам, тут нравилось, что мы в тогдашнее время повсюду за свой обряд гонению подвергались, а тут нам была льгота: нет здесь ни городского начальства, ни уездного, ни попа; никого не зрим, и никто нашей религии не касается и не препятствует… Вволю молились: отработаем свои часы и соберемся в горницу, а тут уже вся святыня от многих лампад так сияет, что даже сердце разгорается. Лука Кирилов положит благословящий начал [20]; а мы все подхватим, да так и славим, что даже иной раз при тихой погоде далеко за слободою слышно. И никому наша вера не мешала, а даже как будто еще многим по обычаю приходила и нравилась не только одним простым людям, которые к богочтительству по русскому образцу склонны, но и иноверам. Много из церковных, которые благочестивого нрава, а в церковь за реку ездить некогда, бывало, станут у нас под окнами слушают и молиться начнут. Мы им этого снаружи не возбраняли: всех отогнать нельзя, потому даже и иностранцы, которые старым русским обрядом интересовались, не раз приходили наше пение слушать и одобряли. Главный строитель из англичан, Яков Яковлевич, тот, бывало, даже с бумажкой под окном стоять приходил и все норовил, чтобы на ноту наше гласование замечать, и потом, бывало, ходит по работам, а сам все про себя в нашем роде гудет: «Бо-Господь и явися нам», но только все это у него, разумеется, выходило на другой штыль, потому что этого пения, расположенного по крюкам [21], новою западною нотою в совершенстве уловить невозможно. Англичане, чести им приписать, сами люди обстоятельные и набожные, и они нас очень любили и за хороших людей почитали и хвалили. Одним словом, привел нас Господень ангел в доброе место и открыл нам все сердца людей и весь пеозаж природы.
И сему-то подобным мирственным духом, как я вам представил, жили мы без малого яко три года. Спорилося нам все, изливались на нас все успехи точно из Амалфеева рога [22], как вдруг узрели мы, что есть посреди нас два сосуда избрания Божия к нашему наказанию. Один из таковых был ковач Марой, а другой счетчик Пимен Иванов. Марой был совсем простец, даже неграмотный, что по старообрядчеству даже редкость, но он был человек особенный: видом неуклюж, наподобие вельблуда, и недрист как кабан – одна пазуха в полтора обхвата, а лоб весь заросший крутою космой и точно мраволев [23]старый, а середь головы на маковке гуменцо [24] простригал. Речь он имел тупую и невразумительную, все шавкал губами, и ум у него был тугой и для всего столь нескладный, что он даже заучить на память молитв не умел, а только все, бывало, одно какое-нибудь слово твердисловит, но был на предбудущее прозорлив, и имел дар вещевать, и мог сбывчивые намеки подавать. Пимен же, напротив того, был человек щаповатый [25]: любил держать себя очень форсисто и говорил с таким хитрым извитием слов, что удивляться надо было его речи; но зато характер имел легкий и увлекательный. Марой был пожилой человек, за семьдесят лет, а Пимен средовек и изящен: имел волосы курчавые, посредине пробор; брови кохловатые, лицо с подрумяночкой, словом, велиар [26]. Вот в сих двух сосудах и забродила вдруг оцетность [27] терпкого пития, которое надлежало нам испить.
4Мост, который мы строили на восьми гранитных быках, уже высоко над водой возрос, и в лето четвертого года мы стали на те столбы железные цепи закладывать. Только тут было вышла маленькая задержка: стали мы разбирать эти звенья и пригонять по меркам к каждой лунке стальные заклепы, как оказалось, что многие болты длинны и отсекать их надо, а каждый тот болт – по-аглицки штанга стальная, и деланы они все в Англии, – отлит из крепчайшей стали и толщины в руку рослого человека. Нагревать этих болтов было нельзя, потому что тем сталь отпускается, а пилить ее никакой инструмент не брал: но на все на это наш Марой, ковач, изымел вдруг такое средство, что облепит это место, где надо отсечь, густою колоникой [28] из тележного колеса с песковым жвиром [29], да и сунет всю эту штуку в снег, и еще вокруг солью осыпет, и вертит и крутит; а потом оттуда ее сразу выхватит, да на горячее ковало, и как треснет балдой [30], так, как восковую свечу, будто ножницами и отстрижет. Англичане все и немцы приходили на это хитрое Мароево умудренье смотрели, и глядят, глядят, да вдруг рассмеются и заговорят сначала промеж себя по-своему, а потом на нашем языке скажут: «Так, русс! Твой молодец; твой карош физик понимай!»
А какой там «физик» мог понимать Марой: он о науке никакого и понятия не имел, а произвел просто, как его Господь умудрил. А наш Пимен Иванов и пошел об этом бахвалить. Значит, и пошло в обе стороны худо: одни все причитали к науке, о которой тот наш Марой и помыслу не знал, а другие заговорили, что над нами-де видимая Божия благодать творит дивеса, каких мы никогда и не зрели. И эта последняя вещь была для нас горше первыя. Я вам докладывал, что Пимен Иванов был слабый человек и любосла-стец, а теперь объясню, зачем мы его, однако, в своей артели содержали; он у нас ездил в город за провизией, закупал какие надо покупки; мы его посылали на почту паспорты и деньги ко дворам отправлять, и назад новые паспорты он отбирал. Вообще, вот всю этакую справу чинил, и, по правде сказать, был он нам человек в этом роде нужный и даже очень полезный. Настоящий степенный старовер, разумеется, всегда подобной суеты чуждается и от общения с чиновниками бежит, ибо от них мы, кроме досаждения, ничего не видели, но Пимен рад суете, и у него на том берегу в городе завелось самое изобильное знакомство: и торговцы, и господа, до которых ему по артельным делам бывали касательства, все его знали и почитали его за первого у нас человека. Мы этому случаю, разумеется, посмеивались, а он страсть как был охоч с господами чаи пить да велеречить: те его нашим старшиною величают, а он только улыбается да по нутру свою бороду расстилает. Одним словом сказать, пустоша! И занесло этого нашего Пимена к одному немаловажному лицу, у которого была жена из наших мест родом, такая была тоже словесница, и начиталась она про нас каких-то новых книг, в которых неизвестно нам, что про нас писано, и вдруг, не знаю с чего-то, ей пришло на ум, что она очень староверов любит. Вот ведь удивительное дело: к чему она избралась сосудом! Ну любит нас и любит, и всегда, как наш Пимен за чем к ее мужу придет, она его сейчас непременно сажает чай пить, а тот тому и рад, и разовьет пред ней свои свитки.
Та своим бабьим языком суеречит, что вы-де староверцы и такие-то и вот этакие-то, святые, праведные, присноблаженные, а наш велиар очи разоце раскосит, головушку набок, бороду маслит, а голосом сластит:
«Как же, государыня. Мы-де отеческий закон блюдем, мы и такие-то, мы и вот этакие-то правила содержим и друг друга за чистотою обычая смотрим», – и, словом, говорит ей все такое, что совсем к разговору с мирскою женщиной не принадлежащее. А меж тем та, представьте, интересуется.
«Я слыхала, – говорит, – что к вам Божие благословение видимо, – говорит, – проявляется».
А тот сейчас и подхватывает:
«Как же, – отвечает, – матушка, проявляется; весьма зримо проявляется».
«Видимо?»
«Видимо, – говорит, – государыня, видимо. Вот еще на сих днях наш один человек могучую сталь как паутину щипал».



