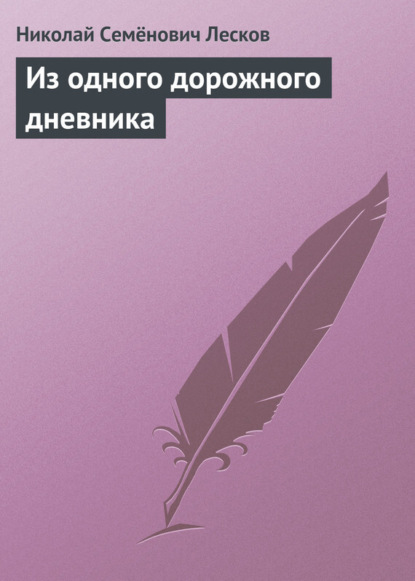 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Из одного дорожного дневника
– Не видал, как его убили. Лихорадка меня в это время трясла, а другие говорят, большущий зверь.
– А волки, видал, как гоняют зубров?
– Нет, сам не видал.
– Да ты зубра-то видал ли? – спрашиваю я шутя. Литвин рассмеялся.
– Что, видал?
– Да мы же осока! – отвечал он сквозь смех.
– Так часто видите?
– О, часто.
– И не боитесь их?
– Как старика встретишь, так прячешься.
– Чего же прятаться? Он ведь не бросается.
– Все лучше, как сховаешься (спрячешься) или на дерево взлезешь.
– Разве он когда бьет человека?
– Дядю моего, лет пять будет, крепко напугал.
– Расскажи, пожалуйста.
– Несет дядя домой плетушку, а дело к вечеру. Несет, а глух тоже был покойник: не слыхал, как зверь-то подошел, а он подошел да как ткнет в плетушку, так и взвилась. Дядя упал – старый человек был, – упал и лежит; опомнился, поднял голову, а зубр его плетушку знай подкидывает, да как увидел, что дядя поднимается, опять к нему. Ни жив ни мертв дядя. Зубр подошел и ну его обнюхивать. Дядя так и ждет, что вот поднырнет рогами, да и на цментарж (на кладбище) закинет. Аж он, черт этакий, понюхал, понюхал, посопел, лизнул его раза с два, и да и опять к плетушке, ну ее опять метать.
– А дядя же?
– Помаленьку уполоз в куст, да со страха так старый и вскочил на сосну; целую ночь там просидел, пока наши ехали, так закричал им. Совсем было помер со страха.
– А не вез он часом москаля со страха?
– Як кажете?
Малороссийской поговорки здесь не понимают.
– Не врал дядя? – спрашиваю я снова.
– Ого, врал! Не такой был человек, чтоб врать.
– Чего ж зубр плетушку-то кидал: сердился или играл?
– Потешался. Они ведь охотники забавляться. Иной раз возьмутся бороться – Боже мой! – только стон стоит, трещит все кругом. Заденут рога за рога, как только не сломят.
– А может быть и ломают?
– Нет, не ломают. Як бы ломать, то уж лучше б он иной раз роги поломал, чем жизни решиться, и не поломает бидак.
– Не понимаю я, что ты говоришь.
– Эге! Не понимаете. Вот, как куска стоит.
– Какая куска?
– Куска, куска, что летом по лесу стоит… маленькая такая, тучами так и ходит.
– Комары, что ли?
– Эге, комары, комары. Ух, да и допекают же они зубров! Волк или медведь теперь еще может часом сделать что-нибудь тому, что «поедынче» (отдельно) ходит, а стаду нет, у них хоть их сколько соберись, не выкусят а ни клока. А куска как настанет, так так доймет их, что они иначе бешеные, аж стогнут, землю роют, выйдут на горку, да оттуда все так кувырком и летят. Сам я это раз видел, своими глазами; даже земля дрожит, право.
– Ну, а жизни-то как решаются они от куски?
– Да ходили наши двое один раз в соседскую деревню, да и заблудились. Вышли на какую-то поляну, Бог знает куда; и ночь уж, и месяц взошел; видят, дело плохо. А издали сразу как загудет, да как выскочит на поляну здоровенный зубр, прямо так лбом о корень и хватился, и ну его вертеть, и ну вертеть, и сам гудит. Это куска ему морду-то и осела, он-то с ней ничего и не поделает. Испужались наши хлопцы, да бежать; бежали, куда глаза глядят, так до самого утра проходили. А пошли мы после сено убирать; глядим, около сосны валяются кости зубра и рога, совсем со лбом промеж двух кореньев засунуты. Оглядели это наши хлопцы, так и познали, что это та самая полянка, где они зубра видели. Как доняла его куска, рога-то он засадил меж корней, чтоб лбище свой почесать, да, видно, и не вытащил, а тут его волки, верно, и задушили.
– А может быть, и с голода издох, – добавил крестьянин после небольшой паузы.
– Как же это он задел рога и вынуть не мог? Ведь они же у него к концу уже.
– Ну, или вширь как завязил, или не умел полегоньку вынуть, все рвал досадуючи, а коренья крепкие, догадки же нагнуться не было. Зверь, хоть дорогой, но все же глупый.
– Поймать его легко или нет?
– Пустое дело: сгородил станочек да положил сена, он и придет; запирай сзади да веди. Так их и ловили, кому там их отсылали, не знаю, королю какому или генералу.
– Чего ж ему идти на сено, когда оно у него есть в лесу?
– Какое там сено?
– Вы же готовите, осокою, как ты говоришь?
– Это даровая работа! Пустое дело с этим сеном.
– Отчего?
– Первое, что его на всех зубров не наготовишь, а второе, что они его сразу все попсуют (попортят): нажрутся, да давай копать его, да кататься на нем, спать разлягутся, все перемочат, перегадят под ногами, да так оно в снегу да в грязи и гноится. Шкода (жаль) работы только, – прибавил он, вздохнувши.
– А в скольких местах кладут сено по пуще?
– Бог их знает, только везде, все одно, сено это зубрам не в помощь. Сгубят сразу все сено и пошли целую зиму кору глодать; пока снег мал, еще осинки молодые скусывают, а там пухнут с голоду на одной коре. В эту-то пору они и к мужикам, на скирдники таскаются, только берегись: все в одну ночь слопают и в леса соседние разбредутся.
– И живут они в соседних лесах или назад идут?
– В Свислочской даче их пропасть живет и вот в нашем маленьком леску, а пара что-то года с два жила, да нет ее теперь. Либо волки загнали, либо в пущу опять вскочили. А то было какие смелые стали; скот наш деревенский пасется, они выйдут да смотрят.
– А ни с коровами, ни с быками не паровались?
– Нет. Наша скотина мелкая, а они какие ведь черти! Где с ними? Он нашу корову просто задушит. Вот у пана тут одного, так спаровали зубра с коровою, потому что крупная, хорошая, так этакая телка зародилась! Рослая, красивая, здоровая, на диво. Только к молоку, говорят, нехороша.[21]
– Нехороша, говоришь, к молоку?
– Да ведьма ее, говорят, испортила.[22]
– Вы все сочиняете.
– Нет, это верно. А вы, пане, смеетесь над ведьмами? Ой! Я пану на это не даю рады (совета). Лихие шельмы, Боже крый от них.
– И людей, стало, они портят?
– Нет, все больше коров да пчел.
– Ну, у меня ни коров, ни пчел нет. А у вас пчел много?
– Нет, мало стало, переводятся борти.
– Что так? Ведьмы, что ли?
– От, и лету им нет, отбиваются все.
Здешние крестьяне верят, что пчелы состоят под особым покровительством невидимых сил. Этому же верят также и в серединной России. В Орловской, например, губернии верят, что есть пчелы, от Бога присланные, и есть загнанные сатаною, вследствие слова, которое знает хозяин. Пчелы от роев, загнанных сатаною, всегда очень сильны и побивают других; но от них хозяин никогда не смеет дать части в церковь (кануну), и купцы «с крещеной душою» будто бы распознают мед от дьявольских пчел и не продают такого воска на церковные свечи, а свозят «в жидовские места» и на фабрики. Действительно, и из крестьян Кромского уезда я знаю пчеловодов, которые ни за что не дают своего меда на канун в церковь; но что им внушает сопротивление общему обычаю тамошних крестьян-пчеловодов, – не знаю.
– А леса вам дают? – полюбопытствовал я у крестьянина.
– Спросить нужно, так дают, по усмотрению.
– А сверх усмотрения?
– Нельзя. Разве пан не видел шлагбавы за нашей деревней?
Я вспомнил, что действительно мы проезжали шлагбаум; что долго звали живущего там стрелка и что нас пропустили, не осматривавши.
– Там смотрят, чтобы ничего не взяли из пущи.
– А мимо шлагбаума?
– Ну, это как кому хочется, – отвечал извозчик, повернувшись ко мне и оскалив зубы. – Да не стоит, – прибавил он, дернув вожжами.
«Разве что так!» – подумал я.
В шерешевское сельское управление приехали очень поздно. Писарь в чемарке встретил нас с заспанными глазами. Приемной комнаты нет. Я улегся на столе, а мой товарищ нашел это импровизированное ложе неудобным, сказав, что «на столе еще належишься», принял половину капли Rhus в сотом делении и в полной униформе погрузился в настланное для него соломенное море.
18-го сентября, г. Пружаны.
Утро прошло презабавно. Проснулись мы от крика в еврейской школе, стоящей около сельского управления. Писарь, услыхав наше неудовольствие, сказал по-польски: «Поганый народ эти жиды!» Спутник мой, ругающий жидов вразобь, вступился за избранное племя, когда его коснулись оптом, и начался спор. Доводы сыпались с той и с другой стороны; но победа, в моих глазах, клонилась на сторону моего товарища, несмотря на то что он затруднялся в выражениях на польском языке. Писарь убедился в том, что и он, и его сослуживцы, и все его приятели бьют баклуши, когда евреи работают.
– Это все так, вельможный пане, однако все же они подлые.
– Чем же подлые?
– До рук все дела забрали.
– Ну, вот, извольте с ними разговаривать! – возразил мой товарищ, обратившись ко мне.
– Что же! Это не я один, а весь свет знает, – отвечал писарь.
– Еще и целый свет! А вы… весь свет тоже знает, что вы лентяи.
Писарь глупо осклабился, однако не согласился, что евреи «не подлые», и «не поганые».
В шерешевском сельском управлении я встретил редкости, восстановившие меня некоторым образом против Сырокомли. Он, рассказывая о литовском Полесье, говорит, что
Żaden nowy obyczaj, zaden wymysł świezy,Nie przemienił ich mowy, ni kształtów odziezy;Zaden nowy duch wieku nie przyłożył ręki,By zmienić bicie serca albo takt piosenki.Jak przed wieki nosiły Słowiańskie narody,Takie nosza sukmany, takie samy brody,Takie same sieriery, któremi dąb walą,Takie same cerkiewki, w których Boga chwala,Tak samo ich posila miód, jadła i ryba,Nie tutaj nie przybyło – trochę nędzy chyba.[23]Шерешевский писарь рассказывал мне историю крестьян, убивших зубра во время голодного года. Они были братья, голод терзал их семейства и угрожал им голодною смертью; начальство хлопотало о покупке хлеба, посылало за ним в Пинск и даже на Волынь; но пока что было, крестьяне решились ни отчаянные средства. Они начали бить зубров; двое, пойманные стрелками, во время самого убийства зверя, и наказаны.
– А теперь не бьют зубров? – спросил я.
– Нет, теперь не бьют.
– А шкуры зубровые откуда попадаются?
– Уже о том не знаю.
В Пружаны меня повез очень веселый мужик с неприятно-сладострастным, чувственным выражением лица. Я первый раз видел такое лицо в Литве.
– Видал ты зубров?
– Ой-ой! Еще сколько.
– А к вам они заходят?
– Отчего не заходят?
– И часто?
– Года с три уж не было, а то так заходили. Тут один старик три года жил.
– Где ж он делся?
– Бог его знает.
– Может, убили.
– Может, и убили.
– А у вас много дичи?
– Стрелки бьют, а мы не ходим за этим.
– Отчего так?
– Так, и ружей нет, и часу нет.
– А стрелкам?
– Им что делать, как не таскаться?
– Что ж они бьют?
– Сарн, данелек, что попадется.
– Да это ж не позволено.
– Вот будут они глядеть!
Народа очень много едет все по одному направлению. «Это от праздника», – говорит извозчик.
– Какой же был праздник?
– Чахнохрист.
– Какой?
– Чахнохрист.
– Чахнохрист? – переспросил я, удивленный новым, неизвестным мне именем праздника.
– Чахнохрист, Чахнохрист зовется, пане.
Господи, что же это за праздник? Добивался, добивался, и узнаю, что это Воздвижение креста (14-го сентября).
Г. Пружаны замечательны во многих отношениях. Во-первых, там есть мостовая, которая лучше мостовой во многих губерниях России. Во-вторых, тем, что в нем обретаются красивые мужские и женские лица, которых не видишь почти с третьей станции от Петербурга. В-третьих, там есть нечто вроде табльдота и строится большой каменный костел, и против него уныло стоит ветхая православная церковь. И, наконец, тем, что приехать сюда очень легко, а выехать необыкновенно трудно. В Пружанах есть четыре почтовые лошади, на которых отвозят почту в Кобрин, но проезжающим их не дают, и потому проезжающий на почтовых в Пружаны должен выбираться отсюда как ему угодно. Иногда уезжают на лошадях еврейских, а когда у евреев праздники или шабаши, тогда сидят у моря и ждут погоды.
Прелесть этого положения мы изведали на себе. Приехав в Пружаны в десять часов утра, мы тотчас же послали за обывательскими лошадями, которые должны были отвезти нас до Загребова, откуда начинается непрерывное почтовое сообщение с Пинском. Товарищ мой отправился к живущему в Пружанах маршалку, у которого он за год перед сим каплею аконита избавил от наглой (скоропостижной) смерти каретного коня, а я завернулся в свитку и залег спать в холодной комнате и на голодный желудок. Проснувшись в три часа, я сходил пообедал, осмотрел пружанскую церковь. Осведомлялся у дьячка о том, действительно ли праздник Воздвижения крестьяне называют чахнохристом? Оказалось, что это действительно так. В ожидании лошадей до десяти часов вечера разговаривал я с хозяином. Здешние евреи все ждут железной дороги из Пинска в Белосток, которая, по их соображениям, будет иметь великое значение для литовского края. Они ожидают, что из Пинска и запинского края (Pinszczyzïу) пойдут на Варшавскую железную дорогу хлеба из Волыни, свиньи, которых из Пинска забирают теперь и гонят в Царство Польское мазуры, и крымская соль, которую во всем здешнем крае предпочитают соли, доставляемой из Гродна. Теперь все это идет фурманами и потому, разумеется, идет не очень шибко, хотя крестьяне постоянно занимаются фурманством. Наш пружанский хозяин имел дела со строителями Варшавской железной дороги и вообще человек опытный в подрядах. Он не хочет верить, что можно выстроить железную дорогу не дороже 35000 руб. за версту, как надеются выстроить Литовскую железную дорогу до самого места соединения ее с Варшавскою железною дорогою, стоящею по 105000 руб. сер<ебром> верста. Он начал выкладывать цены ужасно высокие и не хотел верить, что когда-нибудь не нужно будет темных расходов. Разуверится ли он?.. Не знаю, что еще больше записать о моем пребывании в Пружанах; разве то, что здесь я видел один образец литовского артистократического хлебосольства и имел случай искренно порадоваться от всего сердца, что я родился от племени, которое хотя и не ведет своего родословного дерева от римских гусей, но никогда не оставляло холодным и голодным ни прохожего, ни проезжего, не разбирая, какому Богу он верует. Я вспомнил солдатиков с польским выговором, которых радушно принимали в Пензе и Саратове, вспомнил многое, многое и поневоле пришел к заключению, которое заставило меня желать забыть имя пружанского аристократа, а потому и подробности происшествия, вызвавшего эту заметку, заносить не хочу.
18-го сентября, ст. Антополь.
«Chciałem począć od tego, że wyjechałem z Prużanów, ale kto z was, kochani czytelnicy, tak jest mocny w jeografii, żeby miał о Prużanach wiedzieć?».[24] Известный польский литератор Крашевский в одном из своих многочисленных сочинений («Wspomnienia Polesia, Wołynia i Litwy»[25]) таким образом освободил себя от описания своего выезда из Пружан; но я, при всем моем уважении к этому писателю, должен, напротив, записать, как выезжают из Пружан, где четыре лошади только отвозят почту, а для проезжающих, как я уже заметил, нет почтовых лошадей.
Во-первых, привели нам подводу, запряженную парою крохотных лошадей, муцев. Мы не решились пуститься на этих крысах и потребовали третью лошадь. Снова пошла потеха, окончившаяся, однако, тем, что часа через полтора привели высокого, худого и скрюченного росинанта и запрягли его на левую пристяжку. Уложили наши вещи. Мой чемоданчик поставили под наше сиденье, а окованный железом сундук военного гомеопата – на передок, и на него воссел кучер, в котором сначала я не заметил никакой странности.
– На Запрудов! – сказали мы, усевшись.
Кучер тронул, и шагов тридцать проехали рысью.
– Пане Лукаш (Лука)! Пане Лукаш! – раздалось сзади нас, и послышался топот сапог и старческий сап.
– Ох, фу! – отдувался догонявший. – Пане Антоний!
Наш кучер издал какой-то полусвист-полузвук.
– От же ты этого коня бокового не тронь, бо он, – будь он неладен, – брыкается.
– Брыкается? – спросил мой сопутник. – Зачем же вы дали такую лошадь?
– Ничего, ничего, пане! – успокоил нас догнавший старик. – Ты, пане Лукаш, только не трогай его; нехай (пускай) по воле бежит.
Снова поехали; но, сделавши шагов двадцать, возница наш пробрюзжал «тпрюсь, тпрюсь» и что-то зашамшил зубами, суетясь на сундуке.
– Что ты говоришь? – спросил его мой товарищ. Извозчик опят зашамшил, но ничего невозможно разобрать было.
– Обернись сюда и скажи.
Опять шамшанье.
– Да что у тебя во рту?
Извозчик старался выговорить что-то, но из всех его слов мы разобрали, что «мова (речь) в мене такая поганая». – «Пане Антоний!» – закричал он внятнее, приподнявшись на сундуке.
Из темноты сзади послышался отклик.
– Что у тебя случилось? – спрашиваю я извозчики.
– Ничего, пане, ничего.
– Пане Лукаш! – раздается снова сзади.
– А!
– Это ты меня звал?
– А я же. Кто ж еще?
Подошел пан Антоний. Пан Лукаш что-то забормотал и задвигался во все стороны, а пан Антоний начал заглядывать под телегу.
– Да скажите же, Бога ради, что у вас такое?
– Ничего, пане, ничего. Фурманка трохи (немного) рассунулась.
Вот тебе и раз! Ночью ехать на рассыпавшейся телеге – приятно!
– Вороти назад.
– Ничего, пане, ничего. Будьте покойны. Нужно только вот этот сундук снять с передка.
Сняли сундук, поставили его под себя и поехали на авось.
– Пане Антоний! – опять закричал пан Лукаш. Пан Антоний подбежал снова.
– Зануздай ну пристяжных.
Пан Антоний повертелся у лошадиных голов, и мы, слава Богу, выехали за пределы г. Пружан.
– Проклятая эта фурманка, – сказал мой товарищ, – совсем сидеть нельзя.
– Да, сидеть скверно, – отвечал я, поглядывая на сундук, по железной крышке которого мы так и скользили из стороны в сторону. – И зачем вы возите вещи в сундуке? Где видано ездить с сундуками на телегах?
– Что ж, когда чемоданы моей езды не выдерживают.
– Купите хороший, так выдержит.
– Уж покупал; так и летят вдребезги.
– Закажите Вальтеру.
– Не выдержит никакой.
Сопутник мой, значит, взлез на своего конька. Не сомневаясь, что его нельзя разуверить в том, что ездить по-людски, с чемоданом, а не с гробом, окованным сверху железным листом, гораздо удобнее, я только слегка заметил, что если и действительно он находится в положении богатыря, который никак не мог найти меча по своей длани, то лучше же пусть рассыпаются чемоданы, чем кости людей, трясущихся на его сундуке.
– Ничего, на нем ямщики всегда сидят и не жалуются. Только в морозы, как настынет крыша, так недовольны.
– Я думаю, будешь недоволен, принимая дорогою холодную ванну.
– Не долго же каждому приходится.
– Примерзать-то?
– Ну, уж и примерзать! А, впрочем, на нем сидеть ловко.
– Ну, этого я, по теперешним моим ощущениям, не скажу. А как вот наш пан Лукаш взъедет на косогор, то и покатимся мы с вами долой с фурманки.
– Я уж один раз упал.
– Ну, вот видите! – заметил я.
– Да еще как! Был у одного из служащих у нас французов. Переночевал. Утром подают фурманку, француз с женою вышли на крыльцо, напутствуют меня парижскими любезностями, а я, «с ловкостью почти военного человека», прыгнул в фурманку. Сел и только что крикнул «пошел!», как вдруг чувствую, что фурманка из-под меня выскочила. Сознаю, что в какое-то короткое мгновение я видел свои собственные ноги торчащими вверх каблуками, что у меня болит затылок и что я лежу на дороге.
Приводя себе на память довольно почтенную фигуру моего товарища, его гомеопатические чувства, его коротенькие ножки и полные ручки, я не мог удержаться и расхохотался.
– А тут, – продолжал рассказчик, – и больно-то! И неприятно так упасть в глазах подчиненных! Экая, думаю, досада! Смотрю, француз с женой и все провожавшие меня люди стоят надо мной, высказывают сожаления, а сами, вижу, как не лопнут со смеха. Поднялся я и скорей уехал.
– Ну, вот видите, что делает ваш сундук!
– Да разве я с сундука упал?
– А с чего же?
– С куля. Куль рогожный набили соломой, чтоб было покойнее сидеть, да набили-то по усердию туго, как валик. Как только лошади дернули, куль покачнулся, я и полетел через задок фурманки.
– Пане! – прошамшил извозчик.
– Что тебе?
– Куда ехать-то: на Свадбичи или на Запрудов?
– На Запрудов, на Запрудов. Зачем нам ехать на Свадбичи?
– А так, пане; зачем же вам на Свадбичи?
– А ты дорогу-то хорошо ли знаешь?
– Ого! Я тут взрос. Я того и спрашиваю панов, что сейчас будет разъезд на Свадбичи и на Запрудов.
– На Запрудов, на Запрудов. А какая отличная станция Свадбичи! Можно спросить кушанья, все свежее, и сейчас изготовят, – сказал мой товарищ.
– А в Запрудове?
– Там ничего нет.
– Ну, и Бог с ним, лишь бы скорей доехать да пересидеть в тепле катар.
– Да вы принимайте аконит.
– Я принимаю.
Мне начало дрематься, и, несмотря на неловкое сиденье, я чувствовал, что глаза у меня слипаются. Спать, однако, оказалось невозможным, и я только довольствовался молчанием.
– Погоняй, – говорил мой сопутник.
– Не можно, пане!
– Отчего не можно?
– Поносят кони.
– Что ты плетешь?
– Ей же ей, поносят. Вот ей, конек только первый раз запряжен.
– Который?
– Что в оглоблях.
– Что ж это вы, с ума сошли, жеребенка запрягать в корень?
– Ничего, пане!
– Погоняй хоть большую-то.
– А чтоб она пропала! Доедем и так, пане!
– За что ж только пара везет?
– А то побьют, пане! – и извозчик хлынул бичом по правой лошаденке.
– На Запрудово ли ты едешь?
– О, на Запрудово.
Фурманка сильно покачнулась, и мы едва-едва удержались.
– Дорогу, сдается, чи не потеряли мы, – сказал своей мовой извозчик.
– Ах ты, Боже мой! Ну, ступай, ищи.
Извозчик походил с четверть часа и, вернувшись, зашамотил весело: «Нет, это та самая дорога». – «Пужку[26] сгубил», – пробормотал он, немного повременив, смотря на конец бичевого кнутовища.
– Что ты за чудак такой? – спросил его мой товарищ.
– Я старый.
– Как старый?
– А еще, как француз подходил, то было мне 25 годов.
– Чего ж тебя посадили?
– А кому ж ехать, пане?
– Кто помоложе.
– Нет в дворе молодших.
– Сыновей разве нет?
– Поумирали, один только остался, да молодой еще, тройкой не справит.
– Как молодой?
– Восемнадцать годков.
– Так тебе под шестьдесят лет было, как он родился?
– А было, пане!
– Молодец!
Старик захихикал и закашлялся. Впереди по дороге завиднелся огонек. Лошади бежали, но, поравнявшись с огнем, вдруг бросились в сторону и опять чуть не опрокинули фурманку.
– Ой! Бьют, ой, бьют, панове, – забормотал старик, прядя веревочными вожжами; лошади остановились, но топтались на месте и ни за что не хотели идти вперед. Нечего было делать! Я слез, взял коренного жеребенка за повод и провел его мимо огня.
– Да он у тебя не зануздан! – сказал я, видя, что уздечка взлезла лошади на верх головы и вожжи приходятся почти у самых ушей.
– А не зануздана.
– Зачем же так, если он еще в первый раз запряжен?
– Пристяжная зануздана, пане!
Что прикажете толковать! Я потянул вожжу и, сделав из нее петельку, заложил в рот жеребенку, вместо удила.
Поехали. Попутчик мой начал опять разговор с паном Лукашом, заставляя его по нескольку раз повторять одно и то же слово, пока можно было что-нибудь разобрать.
– Ты помнишь француза-то?
– Помню, – отвечал старик, – кобылу у меня загнал проклятый.
– Как же он загнал?
– Побрал нас тут с фурманками, наклал всякой всячины и погнал, а корма не было, кобыла моя и издохла. Отличная была лошадь, гнедая, здоровая, чтоб ему пропасть за нее. Однако 25 рублей дал.
– А лошадь разве больше стоила?
– По-тогдашнему не стоила, а по-теперешнему она дорого стоила бы.
– Да ведь он тебе платил по-тогдашнему, а не теперешнему?
– Это так. Войско ничего было, доброе войско было, – прибавил он, подумав.
– Не обижали вас?
– Нет, в дороге всем делились, ну, а как нечего есть, так уж все и не едим.
– А вы чего же не прятались, как подходили войска?
– Куда спрячешься-то? В лесу с голоду умрешь. Лучше уж было идти.
– А польские войска вас не тревожили, как была война?
– Нет, только рекрутов взяли.
– Тоже добрые были войска?
– Ничего. Рекрутов я тогда тоже возил, так насмотрелся на них. О, Боже мой, страсть была какая!
– В войсках-то?
– Нет, как рекрутов везли.
– Какая же тут страсть была?
– А кони вот тоже, как теперь, сборные, один туды, другой сюды лезет; справа[27] поганая, вся на матузках (обрывочках), а дорога тяжкая. Боже ж мой, что было только! Кони вертают все до дому, матузки раз в раз рвутся да рвутся, а рекруты утекают… Такое было, что и сто лет человек проживет, не увидит.



