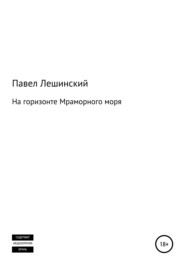 Полная версия
Полная версияНа горизонте Мраморного моря
– Евреев бы просто не было, – тихо вставил Гриша.
– Вот-вот. Я, например, не верю, и меня нет, – ёрничал Гройзберг.
– Ты еще, конечно есть, – Гриша продолжил. – Как еврей. Потому, что помнишь это. Но твой внук уже не будет таковым, если ты не расскажешь ему о нашем народе, а значит и нашей вере. Да ты и сам это прекрасно знаешь, судя по тому, что ты нам, тут, рассказал.
Олег устало улыбнулся:
– Кем будет мой внук, тем и будет. Я считаю, что вне Израиля, вообще, ортодоксальное еврейство себя изживает. Кто мы? Евреи? Нет. Русские евреи. В первую очередь русские. В Германии немецкие, в Америке, просто американцы. Именно мы, евреи, отошедшие от иудаизма, кип, пейсов, филактерий, талесов и синагог, стали новой генерацией людей. Посмотрите, кто движет прогресс в мире? Кто всегда в гуще интеллектуальной жизни всех передовых стран? Кто почти всегда составляет ядро их научных и бизнес элит? Евреи, отвернувшиеся от своих тысячелетних корней, принявшие новое отечество или не признающие отечества вовсе. Космополиты, с самой древней генеалогией, предпочитающие смотреть вперед. Именно такие люди лепят новое лицо мира. И в этом их судьба. Ты говоришь: они перестанут быть евреями? Ну и пусть. Если еврейство зиждется на качающихся у Стены Плача головах, какой в нем прок? Новая вера в себя и в силы природы – вот, что движет такими, как мы. И кто из нас будет счастливее – неизвестно. Вернее известно. Если наши дети будут счастливее своих прадедов, томившихся в гетто, гниющих в канавах восточной Европы и Германии, кому от этого будет хуже? Если они перестанут называться евреями, но, имея еврейскую кровь, обогащенную кровью молодых народов, станут такими же свободными, как американцы, и еще более талантливыми, чем наши предки, кому станет хуже от этого? – Гройзберг, впервые за всю беседу, разгорячился. Впрочем, он быстро заметил это за собой, остановился и, взяв более размеренный ритм, продолжил:
– Ты, Петр, вспомнил христианство. Еще раз вспомню и я его. Что принесло с собой его появление, и как повлияло оно на последующую жизнь Европы? Греция, да и другие языческие государства, достигли невероятного расцвета, главным образом, не благодаря войнам, а благодаря искусству, ремеслам, торговле, философии. Ты видишь в язычестве тормозящий фактор. С точки зрения христианства: язычество – безбожие, поклонение мамонне. Да, это так. Но это плюс его, а не минус! Благодаря свободе мысли и творчества, с артистической легкостью играли эллины своими богами, которые были для них, скорее музами, чем идолами. Многобожие в его многообразности и отсутствии единой морали, оставило нам трагедии Софокла, Иллиаду, наследия Платона и Аристотеля. И стали бы Пифагор, Эвклид и Архимед тем, кем стали, будь они христианами? И каким городом были бы Афины, чудесный город полный храмов, если бы в нем царило только апостольское христианство?
А Рим? Стала бы Европа, такой, как мы ее видим, не будь мощного безбожного в своем язычестве Рима? Впитав в себя все прекрасное от павшей Греции, он распространил ее эстетику на все захваченные территории. Создал под сенью культуры и искусства новую модель сильного государства – империю. Воплотился в
самый богатый могущественный и утонченный мегаполис… Не надолго, поскольку не все можно было предусмотреть. Удержать сложнее, чем завоевать. Но юристы и историки уже 15 веков изучают римское право, как пример стройного и разумного управления державой. Кто же его подал? Язычники.
Роскошные бани, водопровод, цирк. Там было все для счастливой жизни. Правда, далеко не для всех. А христианство? Обратило внимание на простого человека, бесправного и обездоленного. Объявило о том, что высшая ценность – душа. Не власть и не богатство. Тем самым, я думаю, раскачало и, в конечном итоге, развалило империю. Государство, по определению, должно быть искусным аппаратом подавления. Христианство же, во всяком случае, на своей заре, проповедовало то, что с точки зрения земных властителей, можно трактовать, как слабость. Его не интересовали мирские ценности, истинный христианин не должен был беспокоиться о земном благополучии. Все это, так утешительно, умиротворяюще для бедных и бесправных. Константин, по всей видимости, хотел купить народную любовь, легализовав церковь. Тем самым, думал упрочить власть в империи. В какой-то степени, он добился своей цели. Но, всерьез, полагаться на апостольское христианство, как на средство усиления государства – все равно, что ставить припарки мертвому. Может и не навредит, но и помощь не велика. Надо, правда, подчеркнуть, что христианство, с самого своего возникновения, подвергалось мощнейшим искажениям. В том числе, и с подачи официальной лиц. Затем, власть имущие сотворили из него наихитрейшее орудие своего правления. Но это произошло не сразу. В первые века после признания новой религии, христианская вера была еще достаточно близка к первоисточнику. Никакие изощрения вельмож тех времен, не оказались способны затмить его основной и подлинный смысл. Некоторые догматические интерпретации не в счет. Они, скорее, черты политического раскола. И кем бы не были первые христиане: арианами, монофизитами или ортодоксами, им всем Евангелие проповедовало добровольную нищету, самоотречение во имя Бога, любовь к ближнему. Это было сказано более чем ясно. Это знал каждый, кто был знаком с Новым Заветом. Проповедь подточила империю изнутри. Собственность, краеугольный камень, на котором стояло любое государство, не была больше в авторитете. Значит, и светская власть уже не высший авторитет. Тем более, если она не добродетельна. Но как же трудно быть добродетельной и держать в повиновении столь обширную и неоднородную империю! Результат не заставил себя ждать. Западная половина пала первой. Варвары той части Европы, уже принявшие христианство настолько, чтобы просочиться во все структуры империи, все-таки не стали христианами ортодоксами, как римляне, и не смогли интегрироваться в римское общество. Они, подобно раковой опухоли с ее метастазами, проникли во все органы организма и убили его. Но христианство римского толка отнюдь не погибло с падением первого Рима. Оно распространилось по всей Западной Европе, приобретая при этом мрачные и воинственные формы. Оно все больше подвергалось искажению, как изнутри, со стороны фанатичных приверженцев, так и со стороны светских вождей. И снова появляются враждебные друг другу группы верующих. Деятельность их носила как идеологический, так и политический характер. Общую ситуацию нельзя было назвать стабильной. Скорей духовным смятением. Оно перерастало в бесконечные войны и гонения на любое вольнодумство. Гонения – пожалуй, единственное, что объединяло враждующие лагеря воинствующих христиан. С завидным единодушием гнали и гнобили, те и другие любое проявление стремления к чувственной красоте: живопись, скульптуру, поэзию. Но особенно ненавистным, оставался для них полет человеческой мысли. На это, никто не хотел дать своего согласия. На это имели право единицы. Те, кого признали святыми и, только в малой степени, государи. Как раз тогда-то, в средневековье, христианство и превратилось из апостольской проповеди в магический ритуал, до боли напоминающий языческий. Оно было полностью взято в руки земных властителей и воплотилось в отдельную, по сути, светскую организацию, самую мощную, за историю человечества. Святоши, взявшие в руки бразды правления церковью, принялись огнем и мечом загонять народ в царство божие. Таким образом, они пополняли собственную казну, а главное, расширяли круг подданных. Для этой цели годились любые методы. Предполагалось и объявлялось, что все насилие и изуверства причиненное ими – во славу и в защиту Господа, страх внушаемый ими людям – страх Божий, а сами они – Его слуги. Тут, не могу не вспомнить Игнасио Лойолу. Как раз он утверждал, что можно творить любую жестокость, если она будет служить, тому, чтобы вывести человека на праведный путь. Разумеется, где он этот путь, решали те, кто имел право судить, в то зловещее время. И вот такой человек основал орден, который носил имя Иисуса. Каково? Складывается впечатление, что действительно, счастье праведников в раю было бы не полным, если бы они не наслаждались зрелищем поджариваемых грешников. Не будем забывать, при этом, что католическая церковь всегда утверждала, что папа персона безгрешная и является прямым посредником между Богом и людьми, на Земле. Эпоха средневекового христианства охарактеризовалась не просто периодом застоя, а резким скачком назад. Иногда, чуть ли не в доисторические времена. Темной суеверной толпой правили шаманы с крестами. Но, как только официальное христианство отдалилось от первоисточника, до такой степени, что папы сочли возможным обратиться к античности, хотя бы в эстетическом смысле, тут же, воспрянул человеческий дух. Перлы изобразительного искусства сопровождались полетом мысли. Язычество или безбожие пробуждает в личности силы художника, творца. Представь себе мир без Микеланджело, Рафаэля, Леонардо, Альбертини, Джотто, Эразма, Спинозы. А вместо них – христианская проповедь, царство сирых и убогих, скорбные мины и тому подобное. Тоска смертная. Соглашусь, впрочем, что христианство, по началу, принесло на Русь некоторый прогресс. Но почему? Потому, что Русь, к тому времени, блуждала в доисторических лесах, и любой отблеск греко-римской культуры был для нее все равно, что свет отеля Ритц, для советского командировочного. Также притягателен и недоступен. Символ изобилия и счастья. Русь познакомилась с христианской Византией. И через крещение приобщилась к греческой цивилизации.
– Вот и контраргумент. Славяне также были язычниками, как и античные греки. Но, несмотря на все превосходство последних, русичи не переняли пантеон Эллады, однако восприняли новую религию с тех же берегов. Именно новая религиозная культура подняла на следующую ступень развития Древнюю Русь.
Олег отмахнулся:
– Не религиозная культура, а останки языческого безбожия. Разница в том, что славяне были дикими язычниками, греки же цивилизованными. По истечении веков, когда Европа благополучно пережила языческий ренессанс и через переосмысление реформации перешла на новый виток развития, Россия осталась погруженной в мракобесие, в то, что осталось в ее лесах от византийского христианства. Христианство, похоже, окончательно потеряло всякий исторический и глубокий нравственный смысл среди широких масс. Связь с греческой цивилизацией оборвалась. Учение превратилось в мрачный культ, который основывался на страхе и запретах. Оно не стало ближе апостольскому идеалу, не приобрело, для прихожан, первоначальный философско-религиозный смысл, но взяло худшее, что может быть в религии. Опутало общество паутиной табу, из которых самым вредным стал запрет на творческую мысль. Религия затормозила в России всякое постижение мира и самих себя. Можно вспомнить, здесь, раскол, конфликт Никона и Аввакума. С каким трудом, первому далось подвергнуть ревизии христианство, которое превратилось на Руси в идолопоклонство. Но и это кардинально не поменяло ситуацию. Лишь, когда Петр провел реформу, упразднил должность патриарха, Россия побежала семимильными шагами вперед.
– Лишнее подтверждение моего мнения, о том, что духовное переосмысление веры способствовало прогрессу Европы и России.
– Это переосмысление привело к отходу от веры. Именно отход от нее явился фактором прогресса.
– Это уже вопрос веры. Как ее понимать. Твоих оценок я не разделяю, но в принципе, вижу, что серьезного разногласия у нас нет. Свою веру ты называешь безбожием. Реформы церквей и та, что была в 16 веке в Европе и те, что будут происходить позднее, возможно, будут ближе к истине, чем христианство средневековое. Я считаю так оттого, что верю, что прогресс человечества, это – в первую очередь, нравственный его рост. Такой рост не возможен без веры в саму нравственность. Религия же – та традиционная организация нравственной сущности людей, которая предназначена вести их к внутреннему самосовершенствованию.
– Но какая же вера сделала человечество нравственней? Христианство? Ислам? Буддизм? Кем были Григорий Распутин, Гапон, Александр Борджа? Не христиане? Не папа ли мирно уживался с Гитлером? Разве не пили народную кровь, те, кто призван утешать и отдавать последнее нищему? А кому неизвестно, какими чревоугодниками были русские попы и европейские монахи? Сколько человеческих душ замучено в застенках и сожжено на кострах, борцами за веру?
– Вот это, как раз, и есть уход от веры. Превратное ее понимание. Подлинное христианство отвергает насилие. Ислам признает за собой право защищаться. Иисус остерегает своих последователей и от этого права даже.
– Многие ли в этом следуют завету? Единицы. Зато те, кто олицетворяют церковь, известны своим ханжеством, корыстолюбием и властолюбием. А чему учил Иисус? Отказаться от жизни, по сути. От ее радостей, разнообразия, наслаждений, в конце концов. Более того, учит жить самоуничижением, подавлять инстинкт выживания, являющийся естественным для всякого живого существа. Кто на это пойдет? Только больные люди. Неврастеники с расстроенной психикой, люди с подавленной волей, или перенесшие стресс. В общем, начисто лишенные воли к жизни. Умелые вдохновители христианства играют на слабости и наивности народных масс. Они дают им удобоваримую подачку и утешение – религию. Она не слишком дорого им стоит, но зато приносит стабильный доход, почет, укрепляет их положение.
Согласен. Некоторых из слуг церкви, можно назвать верующими христианами, поскольку и они могут стать жертвами собственной песни. Но в несравненно большей степени, они – неверующие, и даже анти христиане. Потому, как на деле, они далеки от учения. Речи их сладки и праведны. Где они нищие истинные последователи Христа, забывшие самих себя, но бесконечно любящие людей? Ау! Их нет! Не удивительно. Ведь Его учение противоестественно. И если б были они, то вскоре умерли б. Как случалось уже. В настоящей, земной, материальной жизни, как таковой не видят они смысла. Смотрят на нее как на испытание, и преодолевают его, бредя по дороге к смерти. Там, ждут они воздаяния и подлинной жизни. Что это, как не психическое расстройство?
Хорошо. Я, вот, к примеру, не верующий. Что ж я, по-твоему, хуже любого верующего? Да, если бы мы могли себе только представить, все грехи христовой паствы! Их корпоративное чувство, их общественный эгоизм не позволяет им признать, что их братия не менее грешна, чем атеисты. Кроме того, для самоуспокоения, они имеют великолепную лазейку в каноническом мировоззрении. Оно, несомненно, в их собственных глазах, дает им неоспоримое преимущество перед неверующими: Если ты раскаялся в грехе, – можешь рассчитывать на то, что тебе он сойдет с рук. Каким бы ты не был мерзавцем, если влился в организацию под названием церковь, тебе будет подарена надежда на прощение и вечную жизнь. Мне, как атеисту, такого счастья не светит. Так учит христианство. Ну, как, на таких условиях, отказаться от того, чтобы стать верующим? Получается: главное – не жить праведно, а жить, подчинив себя, церкви. Фактически, церковники ставят знак равенства между собой и Богом, и требуют подчинения себе, поскольку представляют на Земле Его Самого. В итоге, главная добродетель, с их точки зрения – полное подчинение человека церкви. Эта добродетель способна искупить все. Не так должно бы обстоять дело, будь церковники настоящими христианами. Но им и не надо быть настоящими христианами. В этом нет для них никакой выгоды. Это не поможет им решить их главной задачи. А задача эта – добиться наибольшей власти. Так я вижу. Если понять это, становится ясной и модель поведения большинства вождей церкви. Они активно входят в повседневную жизнь паствы. Играют роль, как идеологов государственного уровня, так и семейных психологов, одним словом, учителей жизни.
Вот, вы смотрите на меня, и, наверное, хотите спросить: а где же мораль и тому подобное? Как быть с ней? Все просто и пошло. Что же такое, вообще, мораль? Этот нравственный критерий личностных качеств человека. Зачем она нужна и откуда она взялась? Ответ не будет таким же коротким, как предыдущие. Люди в своей повседневной жизни вынуждены общаться с себе подобными. У каждого при этом свои интересы. Те, кто умеет с нами ладить, не ущемляет наших интересов, того мы считаем хорошими. Таким образом, мы каждый раз выносим нравственную оценку окружающим. Мы стараемся соблюдать некую справедливость (баланс) в отношении их. Ведь, каждый раз, требуя от окружающих чего-либо, понимаем, что и с нас, в аналогичной ситуации, вправе будут взыскать в той же мере. Мораль, являясь в этих случаях критерием оценки поведения, неизбежно сопутствует ходу наших мыслей, подвигает к решению с кем стоит иметь дело, а с кем нет. А то, может, кого и придушить, как собаку. Ну, это, допустим, шутка. Человек, по природе своей, существо самолюбивое и тщеславное. Ему хочется, чтоб его любили и остальные, уважали, с радостью принимали в любой компании. Это обеспечивает ему необходимый душевный комфорт. Поэтому не мудрено, что почти каждому хотелось бы, чтоб его считали хорошим человеком. Ни в коем случае не быть одиноким презренным изгоем. Но в первую очередь, безусловно, для своего доброго самочувствия, надо ценить и уважать себя самому. Это остается первостепенной задачей даже тогда, когда окружающие тебя ненавидят и не ставят в грош. Каким же образом надо ему действовать, чтобы оставаться на высоте в собственных глазах и в глазах окружающих? С людьми, которые общаются и ведут себя с ним в благожелательном ключе, и от которых он и в дальнейшем рассчитывает получать всевозможные блага, он будет стараться вести себя аналогично. Он понимает, что они ждут такого же поведения от него, и, возможно, только по этой причине, так добры с ним. Он может поступить хорошо, и не ожидая благодарности, просто, для того чтобы выглядеть хорошим в собственных глазах. Ведь, прежде всего, ему надо уважать себя, а лишний повод, тут, не помешает. Однако, вполне вероятно, что он поступит с человеком, который был с ним добр, и по-свински. В этом ему должно будет помочь, пусть, даже сомнительное оправдание. Например, он скажет: а так ли уж был он добр ко мне? Предположит злой умысел в его безобидных действиях. Найдет в его характере массу недостатков. Предположит, что в подобной ситуации, тот поступил бы с ним так же, если не хуже. Так действует мораль человека в обычной жизни. Она является плодом его фантазии и служит для его собственной пользы. И, в общем, это правильно. Иначе, для чего бы было ее придумывать? Лишь бы его изобретение в точности отвечало его личности. Просчет в этом деле ведет к ненужным угрызениям совести. Мораль должна в точности соответствовать его наклонностям, характеру, профессии, положению в обществе. Как правило, зная индивидуальные особенности человека, можно предположить, какая у него мораль. Это не бесполезно, если нужно определить, насколько можно ему довериться. Зыбкость и эфемерность морали, как вещи искусственной подтверждает и тот факт, что она часто меняется с переменой в состоянии здоровья, места работы и, конечно же, с возрастом. Можно привести массу примеров, но всем они известны. Хорошим для всех быть невозможно. Как говорится: кто думает о других, о себе не думает. Поэтому первостепенная ценность морали – более чем сомнительна. А кто так считает, сам ловит себя в собственную ловушку. Однако рассматривать ее с позиции целесообразности стоит. То есть, не плохо бы знать каковы нравственные ценности человека, чтобы не оказаться ненароком им обманутым. Знать, где ему будет с руки, надурить тебя, а где оставаться высокоморальным.
– Давно не слыхал я подобного цинизма. – наконец вымолвил Петр.
Олег самодовольно ухмыльнулся, поправил рукой полуседые волосы, откинулся к стенке и ничего не ответил.
– Ладно. Пойдем мы, пожалуй, в свое купе, а то я уже устал от ваших интересных разговоров. Пошли, Петруха! – предложил в своей обычной развязной манере Саша.
Петр согласился:
– Спасибо за приятное общество. Пойдем мы с Сашей чего-нибудь полистаем.
Через пару минут они уже были в своем тихом просторном купе. Здесь не было шибко грамотного Гройзберга, не пахло скотчем от чувалов, в общем, обстановка – почти санаторная. Петр принес чаю, и мужчины мирно наслаждались тишиной, глядя на проплывающие мимо, голые белорусские леса.
Спустя минут 15, в коридоре послышались шаги. Саша насторожился. Он все еще опасался вторжения любвеобильной Юли. Но шаги стихли. Потом, еще кто-то с шумом проник в вагон и прошагал мимо их купе. Некоторое время, кроме мерного стука колес ничего не тревожило слух. Но это длилось не долго. В противоположном конце вагона, там, где ехали Игорь и Олег, послышались голоса. Трудно было разобрать слова, но Петр и Саша с легкостью узнали скрежещущий голос своего нового знакомого. Хлопнули двери вагона. Кто-то пробежал по коридору. Снова голоса, со стороны купе бандитов. Теперь уже Олег громко смеялся и что-то кричал. Шум возни. Треск. По коридору пронесся топот ног. Сколько человек пробежало, понять было сложно. Со стороны купе Игоря и Олега все тряслось и гремело. Многоголосые крики заполнили пространство коридора. Сейчас, уже явственно был слышен скрипучий бас Олега, резкий и надрывный:
– Я держу их! Мочи его! Мочи!
Несложно представить, как встревожились Петр и Саша. От чтения их оторвали.
– Что там, интересно, за перипетии? – тихо произнес Петр.
– Пока лучше не соваться. Потом я схожу. – также тихо ответил Саша.
Тут раздался звук бьющегося стекла. Звуки слились в какофонию. Грозный бас проводника, словно, прорубил перепалку. Шум прекратился. Галдеж, хоть еще и продолжался, но стал на тон ниже. Топот десятка ног пронесся теперь в противоположном направлении. Наконец, все стихло.
– Сдается мне, что-то неладное стряслось. И, по-моему, кто-то из наших, тут, замешан.
– Да. В начале, мне показалось, я услышал голос того парнишки, что запчасти с братом везет. Потом, бля буду, если не Коробов к ним прибегал. Дело мне начинает все меньше нравиться.
– Пойдем, посмотрим? Кажется, они там стекло разбили.
– Пойду я один. Обожди меня здесь.
– Ок. – согласился Петр.
Саша вышел в коридор, где сразу оказался, объят пронизывающей прохладой, шедшей из начала вагона. В коридоре никого не оказалось. Слегка поежившись, он направился навстречу ветру, в сторону, где расположились его новые друзья. По мере продвижения, морозный ветер все сильней хлестал его разгоряченную волосатую грудь. Пройдя вперед, он заметил, что окно напротив бандитского купе разбито. Половина стекла, как не бывало. Другая половина – испещрена паутиной трещин. При этом, осколков на полу не видно. Вероятно, заботливый проводник уже их смел. Купе Игоря и Олега против обыкновения закрыто. Им тоже свежий ветер не по вкусу. Саша помялся несколько секунд, потом решился постучать:
– Пацаны! К вам можно?
– А, Сашок! Заходи дорогой! Гостем будешь! Имитируя кавказское гостеприимство, весело прокричал Олег.
– Заползай. – вторил ему Игорь. Вид у обоих был самый безоблачный. Даже, скорее, радостный. В легкой растерянности, Саша молча уселся с Игорем. Тот начал, не раздумывая, в присущей ему разухабистой манере:
– Где ты, Сашок, был? Такое шоу пропустил!
– А что случилось то? Стекло, вон смотрю, кто-то разбил. – осторожно вставил Саша.
– Да, ты че? Тут, такой цирк состоялся! – темпераментный Олег даже подпрыгнул на своей полке. Голос его чуть не сорвался на сип.
– Дай ладно, я расскажу. – улыбаясь, но гораздо более флегматично, взял слово Игорь. – Сижу я, никого не трогаю, слушаю плеер. Скучно, немного, конечно. Вдруг, вижу: по коридору девка, такая маленькая с хвостом, пробежала. За ней, правда, какой-то паренек пропилил, но я не обратил на него внимания. Ну, ладно. Девка, в общем миленькая. Думаю: пойдет обратно. Что-нибудь ей скажу. Приглашу, например, в ресторан. Предложу яхту и Гавайские острова. Через минут пять, дверь вагона хлопнула. Я высунулся, вижу – идет моя ненаглядная. Я ей: – Красавица! Мы скучаем в сугубо мужском коллективе. Заходи со своей кружкой! – она несла чай через наш вагон. – Посидим чайку попьем. Угостим, чем Бог послал. Девка, как ошпаренная коза – бежать. Ну, что? Посмеялся и все. А за ней парнишка, тот же, следом шел. Видать, ее хахаль. Но это я понял позже. Маленький такой, щупленький. Но, как оказалось, и дурной, к тому же. Наверное, он последние мои слова услышал, как в вагон входил. И знаешь, с деловым видом к нам подгребает – Парни, чего, мол, нашу девушку цепляете? Так не годится. Я ему: чего набычился? Кто кого цепляет? Если мы зацепим – не возрадуешься! Пару нежных любезностей ей в след отвесил и делов! – Девка, между тем, наш диалог услышала и живо смылась в свой вагон. Пару минут, может быть, поточил лясы с тем парнишкой в коридоре. Уже хотел своими делами заняться. Тут, смотрю, бежит к нам, с той стороны, куда девчонка слиняла, длинный такой и красный пацан. Несется, как на пожар. И чего, ты думаешь, творит? Я стоял лицом к нему. Щупленький спиной. Так, тот, через малыша, без всяких прелюдий, мне кулачонком в рожу! Еле увернулся. Но по уху, вскользь, он все-таки задел. Мальчонка, тот – назад, за спину длинного, «защитника» своего. Я обалдел, от наглости. По репе ему – раз, два. Он – только руками машет, как мельница, без толку. Олег вышел, мелкого парнишку оттащил за красномордого заступника, и перегородил вагон. Маленький, не долго думал, – убежал. Через несколько секунд, толпа бежит от них. Прикиинь! – Игорь, даже выпучил, от восторга, свои вдавленные в череп глаза. – Я, только успел Олежке крикнуть: держи их, там, как можешь! Олег уперся руками и ногами, загородив проход, чтобы я мог спокойно тренироваться, на еще трепыхавшемся болване.

