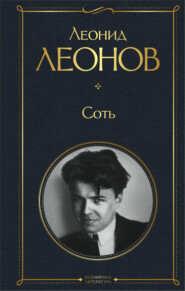
Полная версия:
Соть

Леонид Леонов
Соть
Глава первая
I
Лось пил воду из ручья. Ручей звонко бежал сквозь тишину. Была насыщена она радостью, как оправдавшаяся надежда. Стоя на раскинутых ногах, лось растерянно слушал свое сердце. С его влажных пугливых губ падали капли в ручей, рождая призрачные круги по воде. Вдруг он метнулся и канул в лесные сумраки, как камень в омут.
Об этой тайной водопойной тропке ведало, должно быть, все лесное жительство: так читалось по следам у ручья. Из-за дерева выступил корявый старичок. Кроме неба и желтых прошлогодних осок, в воде отразилась собачья шапка да длинные, не по тулову, руки, повисшие из рукавов. Вздувая ноздри, сердито внимал старичок оглушительному гомону пробуждения… В тот крайний час угасающего дня лес начинал хрюкать, лаять, петь, всяк в свою любовную дуду. Первыми застонали зяблики, и где-то в соседнем болотце, укромном месте птичьей любви, проникновенно отозвались бекасы. В позлащенной закатом высоте проплакала скопа о своих жертвах, нарождающихся по земле, горлинка навзрыд звала своего хохлатого супруга, гукнула выпь… и первая звезда, нежнейшая, явилась над болотом. Уже и на старичка простирался колдовской зуд весны, уже и сам готов был скакать и кататься заедино с обезумевшей птищью, но тут северный ветерок скользнул ему в ноздри. Он чихнул, заморщился и отступил в тень. Стоит ноне сохлый можжучный кусток у ручья, и самой неистовой весне не пробудить его.
Дебрь угрюмилась, замолкали любовные хоры, и только те беспечальные лесовые жители, которых успело пригреть апрелем, лениво копошились на своем пригорке. Перед лицом неслыханной беды они предавались суетливому волнению, и одни запирали бревнами входы, а другие прямо ложились, навзничь, торопясь сразиться и погибнуть в борьбе. Багровая суставчатая туча вонзилась в их округлый мирок, – напрасно они тащили ее на расправу к своему нещадному судье. И хотя лишь забава двигала рукою человека, они угомонились не прежде, чем перестало к ним струиться сверху недоброе тепло. Увадьев вынул палец из муравейника и понюхал: он пахнул терпким муравьиным потом.
– Двигай, двигай… – крикнул он спутникам своим на дорогу.
– Да гуж лопнул, – превесело отвечал возница, шаря в передке запасные веревочки. Все веселило его равнодушную старость: и лихая распутица, обязывающая к приятному безделью, и эта нерубленая синь, надежная броня от мирских треволнений, и эти, наконец, беспутные седоки, которых он вез из одной неизвестности в другую. – Дорога!.. пропасть в ней крещеному, как собаке в ярманке. – Но он ухмылялся всей своей волосатой харей и, судя по азарту речи, всемерно одобрял эту зыбучую родную грязь.
Телега плясала на ямах, спрятанных под водой, кнут задевал о ветви; Сузанне казалось, что лошаденка растягивается, передняя ее часть убегает куда-то в окончательное небытие, а нехитрое колесатое сооружение, именуемое подводой российского мужика, так и стоит на месте. Едучи в синюю мглу, Увадьев раздумчиво жевал почку, сорванную с придорожной крушинки; на языке долго держалась душистая, волнительная горечь. «Весна, – кисло думал он, – размазня чувств и душевная неразбериха…» – и мысленно грозил ей кулаком. Он не любил гулливой этой бабы, которая безобразит на дорогах и голос которой простуженно клокочет ручьями; он вообще не любил ничего, что крошилось под грубым рубанком его разума, и, если уцелел в его памяти какой-то весенний овражек, усеянный одуванчиками по скату, он стыдился этой самой сбивчивой своей страницы… Зато и лес встречал без привета этих трех строителей людского блага. Густилась тьма, уже не оживала потревоженная тайна, дорога временами пропадала, и хоть дразнили изредка остожены на полянках, все не объявлялось теплое жилье. Понурый, как черный манатейный монах, выходил на дорогу вечер.
Щуркими от дремоты глазами Увадьев вглядывается в темноту, и воображением дурашливая овладевает сумятица. Продрогшие деревья обнимают друг друга, греясь в исполинских схватках. Темные глазки лесных хозяев перебегают в буреломе. Холод неуклюже копошится в рукавах, и Увадьев медленно догадывается, что девушка вправо от него совсем замерзла. Ее четкий и ненавистный профиль смутно мерцает под полями мужской шляпы; ее высокие сапоги до колен закиданы грязью. Он досадует, что с нею и десятками подобных ей суждено делить труды по великому начинанию. Его злит близость женщины, и он не верит, что это тоже власть весны.
– Водки хотите, товарищ?
Она оборачивается, почти испуганная его заботливостью:
– Спасибо, Увадьев, я не пью водки.
– Что же вы пьете, когда промокнете?
– Я пью только молоко.
Она смеется уже не в первый раз, и ему хочется жевать свой негибкий язык. Тогда за спиной шевелится Фаворов, инженер, третий в подводе; не без словесной красивости он распространяется о Петре, который почти так же, кнутом и бесчисленным количеством свай, осушал пространное российское болото. «Не то, не то, – хочется кричать Увадьеву. – Твой Петр был кустарь, он не имел марксистского подхода…» И опять он ощущает свой язык как суконную стельку, в насмешку засунутую ему в рот. Так идут минуты, и теперь только один возница, наобум тыча кнутом во мрак, дивуется на фаворовское словотечение.
Глуше хлюпают колеса в колеях, меркнет свет в подорожных водах; хрипит надсадно правая чека, в нос вторгаются древние запахи ледяной сыри и разопревшего коня. Дремучее дремлет, утомясь недавним любовным припадком. Таинственно течет лесная ночь, и, как речная в заводи трава, ветви отклоняются по течению. Она въедается все глубже, зараза сна. Мир опрокидывается, и все летит из-под ног. Склонясь к себе на мокрые колени, Увадьев дремлет, но и ночная его греза все о том же.
По бесплодным пространствам Соти несутся смятение и гомон сплава, а невдалеке, подобные чудовищным кристаллам, мерцают заводские корпуса: там, в шести огромных черных ящиках, в тишине укрощенного неистовства происходит медленное рождение целлюлозы. Движутся зубчатые ленты из реки, влача на берег свою ежеминутную добычу; унывно поют стаккеры, ссыпая в темные монбланы мокрый баланс, и Увадьеву любы вдвойне эти стальные неоскудевающие руки. Сам он, Иван Абрамыч Увадьев, идет заводским полем сквозь знойную северную непогодицу; одиночество томит и радует его. Ему навстречу огромным, машинным шагом, невозможным наяву, движутся Бураго и Ренне, отец Сузанны; они почему-то смеются и длинными пальцами указывают в него с высот своего страшного роста. До боли в шее он задирает голову, и ледяная изморось брызжет ему в оголившееся горло. «Спешите, спешите, товарищи, вы строите социализм!» – кричит он вверх, стараясь прочесть в глазах их сокровеннейшие мысли. «Тим-тим…» – басовито и бессмысленно отвечают те, оставляя Увадьева в томительном недоуменье. Опять они идут, и сапоги их пожирают дорогу, как те каменные бегуны на бумажной фабричке, где он родился. «Тим-тим!» – нараспев говорит Бураго, вращая белками глаз, выпуклых, как яичная скорлупа, а Ренне вторит ему отрывистым и важным мычанием. «Тим-тим…» – во внезапной ярости кричит и Увадьев, постигая по-своему смысл начавшейся игры – «тим-тим!». И вот волшебством сна он шагает впереди них, подмигивая ближнему стаккеру, легко и мощно приподнятому над землей; и машина понимает… Потом рвется непрочная оболочка сна, и ознобляющий толчок возвращает Увадьева к яви.
Подвода стоит среди тесной поляны, и черная копна сена на ней – как высокая иноческая скуфья. Звезды пропали, точно ссыпала их в мешок все та же беспутная бабища и сама села на мешке. Дороги нет, под ногами травянисто чвакает весна, и вот уже не разобрать спросонья, в котором веке происходит дело. Ель и ночь. Несколько поодаль Сузанна мужскими словами отчитывает возницу, который тем временем щедрыми охапками натаскивает сена своей клячонке. Увадьев шатко идет к вознице; все еще заслоняют действительность громоздкие образы сна.
Уже не радует мужика вынужденная остановка:
– Эва, конек малость с дороги сошел.
– Сам-то где же был, тим-тим?
– Да там, где и ты: во снах рыбку удил!
Мгновенье злость борется в Увадьеве с дремотой.
– Не чуди, Пантелей. Это ты меня, а не я тебя нанимался везти в Макариху. Ищи теперь дорогу, чертова погонялка!
Мужик странно молчит и вдруг стремительно, не щадя добра, ударяет шапкой оземь:
– Тута, товаришш, ночевать станем. Нельзя ехать: заведут! Тут нечистой силы под каждым корнем напихано! У нас поехал один эдак-то, глянул, а колес-то под ним и нету…
Увадьев упруго вскакивает на передок:
– …кланяйся деткам, Пантелей! – и уже шарит упавшие вожжи.
Держа лошаденку под уздцы и чуть не плача, мужик ведет подводу в крайний мрак ночного бора. Снопы ледяных брызг, хрустких на зубах, извергаются из-под колес. Лошаденка фыркает и шарахается чего-то, недоступного немощному глазу человека. Фаворова, который ушел искать дорогу, все нет; ему кричат, но он не откликается. Спичек нет, ибо курит только Фаворов, а Увадьев пятые сутки жует антикурительные леденцы. Ни ветра, ни неба, ни путеводных звезд на нем, и лишь где-то по верховьям елей гудит и плещется апрель. Телега снова упирается во мрак; расставя руки, Увадьев пытливо шарит тьму и не узнает сперва мокрой, волосатой щеки Пантелея.
– …передеваюсь. Вера у нас такая: заплутался – надо кожух наизнанку вздеть. Ходят… ишь, ишь, выступает как! Эй, кто?.. – жалобно кричит мужик и, как ослепленный, вертит головой.
– Не ори, кому в эту пору в лес охота!
– Они везде, они – где подумал, там и ходят. У нас Пярков эдак-то зашел да двои сутки бездорожно и маялся. Напослед скитаний выдался он эдак на плешинку лесовую, видит: сидит воин на пенышке, лапоток обуват. Тут он сразу и смекнул, что Невский Александр…
– Беглый поди… – угрюмо косится Увадьев, и уже самому ему мнится, будто выступила из-за дерева голая чья-то толстая нога.
– Не, скиток тут его… вот и бродит. Ну, а Пярков-то сам из солдат, подходит, кланяется – дескать, насчет путинки бы! А воин привстал да как маханет его ручкой промеж бровов. Так у него руки-ноги дыбом и встали, у Пяркова-то. Из Епы он, коператив по-вашему, вот святителю дух епиный и не понравился…
Приспустив козырек мехового картуза, Увадьев задумчиво жует карамельку:
– Деток-то много наковырял, дудкин сын?
– Четвертого ожидаем к покрову.
– Быть, значит, и деткам дураками: вся порода в тебя, осиновая. Езжай, букалище!..
Сам он, однако, идет вперед и осторожно, без предупрежденья, хватает смутительную ногу. Та хитра, она не вырывается, не убегает, она ждала нападения, и Увадьев держит лишь осклизлый свежеобструганный брус. Тьму торопливо разгребают руки. Бревенчатый, на насыпи, не на нонешнюю совесть ставленный частокол охраняет сердце леса. В щелке меж кольев мерцает невзрачный огонек, поминутно заслоняемый веткой. Весна спустила своих псов: ветры, тихо скуля, лижут снег. Заблудившаяся телега гремит на выпученных корневищах и цепляется осями за стволы. Просека уводит вниз, и здесь является Фаворов; он напрасно пытается закурить: отсырелый табак не принимает огня. В недолгом свете спичек, негаданный, как наважденье, рождается косой деревянный крест. На карте, которая в кармане у Фаворова, нигде не помечен этот тайный скиток.
Двое недружно бьют сапогами в ворота. Идут какие-то куски времени; ни окрика, ни псиного лая, да и елозящих шорохов за воротами не отличить сперва от разнозвучных журчаний апреля. Потом в проеме квадратного оконца, прорубленного на высоте плеча, возникает рука с фонарем, а за нею тянется кудлатая рыжая голова в скуфейке. Глаза смотрят в глаза. Пантелей шумно крестится и кланяется огню.
– Пошто в ворота бубните?.. грабители аль грабленые? – дерзко кричит монашек: видение женщины ошеломляет его и понукает на эту стремительную дерзость. – Нам и собственных блох прокормить нечем!
– Отпирай, инженеры мы, – глухо говорит Фаворов и тычет пальцем в форменную свою фуражку.
Фонарь качается, и вся вселенная раскачивается вокруг него.
– Дозвольте, у игумена благословлюсь сперва…
Со стуком падает окошко, снова уныние и гулкая весенняя капель. Карамелька во рту Увадьева пахнет скверными духами и прилипает к зубам; украдкой от Сузанны он отдирает ее ногтем. Ворота раскрываются настежь: сутулый и в рваном полушубке поверх манатьи низко кланяется новоприбывшим. И уже не дерзко, а плачевно суетится в фонаре заморенный великопостный огонек.
– За молитв святых отец наших… помилуй нас! – Монах напрасно ждет ответного аминя, а рыжий спутник его гневно потрясает фонарем, но тот отводит его в сторону повелительной рукой и новым поклоном извиняется за неразумие младшего. – Дорогу ищете?
– В Макариху плыли, гражданин игумен, – объясняет Увадьев.
– На полунощнице игумен… а в Макариху, эва, через реку. Только лед опаслив ноне: весь во швах да в промоинах. Сидеть вам тут до воды… – Исподлобья он смотрит на Сузанну, и, видимо, желанье укрыть живых от непогоды превозмогает в нем запреты святителей вводить женщину в обитель. – Пожалуйте, в дом божий все вхожи… – Придерживая визгливую половинку ворот, он дает знак Пантелею ввести подводу.
Отсырелые постройки пахнут мокрым деревом и пронзительным весенним навозом. В крохотной звоннице медноголосо кричит ветер. Через грязь ведут высокие мостки. Непогода усиливается, и тем слаще терпкое тепло келий.
– Могильная у вас тишина, отец, – для почину говорит Увадьев.
– Приличествует монаху могила, – эхом вторит старик, смущая гостя новым поклоном.
– Вы не кланяйтесь, не становой… не люблю.
– Не тебе, а высокому облику, что тебе на подержание дан, поклоняюсь!
Увадьеву хочется возражать много и увесисто, но распахивается дверь в тепло и сон… ослабевшая рука покорно тянется к скобке. Рыжий монашек пропускает гостей вперед. Дверь закрывается, как прочитанная страница, и опять овладевает округой хлопотливая суетня весны.
II
Стоят леса темные от земли и до неба, а на небе ночь. Незримо глазу положен на небе ковш; ползет ковш ко краю; выливаются на жадную землю сон, покой и тишь. Мир спит, и никому не ведомо в нем про укрывшихся в длинных приземистых избах черных мужиков… Было время, соловьиным щекотом встречал лес буйные весенние набеги, но состарилась лиственная молодь, одолела ее могучая хвоя, и сны иные стали ночевать в их омраченных мудростью верхушках. В ту пору зеленой младости сошлись на этом месте блаженный Мелетий, который умер впоследствии, наколовшись о змею, да еще Спиридон, что значит круглая плетеная корзина. Бегунов из мира, приманила их девическая нетронутость места, они и стали зачинателями этой северной Фиваиды.
К ним, как ручейки к самородному озерку, притекали разные люди, которые тоже не нашли, чем обольститься на этой удивительной земле. Сбежались ручейки воедино, и вышла тихая, угрюмая река; ее истоки затерялись в людских низинках, а устьем приникла она к той обширной голубой чаще, откуда извечно утолял жажду ветхий человек. Жили бедно, жили впроголодь; гнали смолу, продавали меды на спасов, ибо монаху стыдно пчеловодом не быть, и долгие годы ни урядники, ни богомольцы не нарушали обительского уединения. Ночными призраками, бездорожьем, ядовитыми воспареньями болот бог охранял свое гнездовье.
А потом проведали о спасенниках купцы, наезжали пожить наедине с нечистою душою и за недолгий постой дарили скиту мешок ядрицы, либо прибор столярный, либо конька пошелудивее, потому что не храбровать же на нем монаху, либо ситцевых чернот, завалявшихся на складе, а один, именем Барулин, которого здесь и погребли, на медное било расщедрился, плиту в семнадцать пуд; в нее и били, благовествуя праздники или часы отдохновенья. Некрупный шел сюда купец, не удавалась обители мирская слава. Тогда хозяйственный Авенир завел старцев в скиту, и первые воистину обладали даром развязывать незамысловатые мужицкие узлы, а потом измельчало званье, попадали в него не по благодати, а по назначению, и ко времени великого скитского разорения состоял в старцах один лишь безногий Евсевейко.
В давние дни Мелетия обильно бродил здесь лось и путлял медведь, но в начале века, в голодный год, двинулись сюда переселенцы, и многие селились на угодьях, которые от века скитские водители почитали за свои. Так родилась Макариха на Соти, привольная Шоноха на Шуше, Ильюшенско на Голомянке да на Быче Лопский Погост. Сперва терпели вторженье, рассчитывая на их-то спинах и воздвигнуть обительскую славу, но мужик пёр во множестве, голодный и плодущий, как небитая саранча. Последующие наставники, птенцы Авенировой выучки, уже воевали с настырными мужиками, и авва Сергий, к примеру, пойму через сенат оттягал, собираясь строить на ней конный завод, но помер в губернаторской канцелярии, где хлопотал о воспрещении рыбной ловли в Соти; падая, уже неживой, он схватил писаря за хохол, да так и повалился вместе с писарем на пол. Не с того ли и началась гибель империи, которая для скита, без преувеличения, была крушением самой планеты. В тот же год, слегка побунтовав, мужики безобидно пахали скитские земли, рыбу же возили на продажу в городок; зимами, впрочем, они по-прежнему хаживали через лед послушать протяжное иноческое пение. Скит возвратился в прежнюю скудость.
…Стоят леса темные от земли и до́ неба, а на земле сон. Спит все, чему дано это сладкое беспамятство, и даже тягучие вешние воды ленивей текут подо льдом, омывая скитское возгорье. Полунощницу отпев, спят боговы мужики, а среди них престарелый Ювеналий, который безвыходно сидит в келье, как коряга; Феофилакт, всегда обсаленный, точно все обтирали руки об него; Ксенофонт, бегун с Афона; Агапит, всему миру безвредный и бесполезный приятель; Аза, что значит чернота, ибо слеп; рябой Филофей, осадная башня вопреки имени своему; Устин, всегда носящий пыль и ссадины на лбу, следы моленья; еще Филутий, Кукий, Пупсий и некоторые другие, помянутые в ином и лучшем месте.
В угловой покосившейся келье спит на голых досках задушевный казначей Вассиан. Под навесом из трав, на которых проставлены заветные травяные имена, спит он сам, хранитель тридцати обительских рублей, спит, и горькие мечтания баюкают его старый сон; спит, и кошка ему лысину лижет.
Мнятся ему обширные пространства вырубленного леса, а на них цветут благолепные монастырские палаты. Возглавляет их шатровая колоколенка, видная из четырех волостей, строенная по собственной его, Вассиановой, причуде. Кружевные яруса легко взбегают вверх, а вверху развешаны колокола, басовитые деды со звонкими внучатами. И будто бы в знойное утро духова дня, напоенное колокольным плеском и птичьим щебетом, ждет обитель губернаторского приезда… Богомольцами да всякой калечной паствой затоплена соборная площадь; по ней похаживают шустрые монастырские служки, сортируют народ, ибо равно взору и вышнего и земного начальства приятны умильные лица, утверждающие мудрость правителя. Сам он, Вассиан, стоит у ограды, прямо против паперти, слаженной из кованого рисунчатого чугуна, и зорко блюдет порядок и благочиние… И будто всех он знает по имени-отчеству, и его тоже знают все. Потом ветроподобно проскакивают взмыленные кони, и вот сам губернатор, сверкая сановной чешуей, сходит из коляски на хрусткий, незатоптанный песок. Он улыбается, и все улыбаются ему, и даже могучий архангел, который в огненных сапогах изображен на стене собора, смягчает свой немилосердный, темный лик. Губернатора сопровождают чиновники с алчными лицами, чиновников сопровождают жены с желтыми складчатыми шеями, а жен их – вертлявые молодые люди, которые тоже не без удовольствия улыбаются.
«Тим-тим, – приветственно говорит губернатор, кивая по сторонам, – тим-тим!» А Вассиану понятно, что это означает – «дать сему казнохранителю персицких изразцов на лежанку, с конями, цветами и воинами!» Он бежит чуть поодаль, Вассиан, и все смотрит, все смотрит с умилением и тревогой на блистающие губернаторские калоши. И вдруг сквозь радостную жуть восхищения своего он догадывается, что сейчас произойдут похороны, а покойник – это он и есть, шествующий впереди, нарядный и добротный сановник. «Тим-тим, – зябко шепчет Вассиан, кланяясь и забегая сбоку, – тим-тим!» И показывает, придерживая рукав, на ветвистые, полные птиц и прохлады монастырские деревья, под которыми столь приятно и без особой скуки станет гнить тучная губернаторская плоть. «Тим-тим!» – взахлебку звенят колокола, и даже нищий слепец, высунувший из толпы кружку под милостыню, воодушевленно лопочет свое гнусавое «тим-тим».
Уставясь во тьму, Вассиан лежит с открытыми глазами, и нет во тьме ответа смятенным Вассиановым запросам. Сообщница Вассианова уединенья, кошка мягко спрыгивает на пол; она напрасно ищет еды, зевает и возвращается на хозяйскую овчину. Вассиан зажигает свечу и уныло, как кляча – вытертый свой хомут, обводит взором келью. Все в ней, от стоптанных ошметок у порога до подпалинки на иконе от упавшей свечи, вопит о нищете скита. Не склеивается разбитый сон, напрасно Вассиану даются ночи. Он берет с подоконника узкий ящик с землей; бледные ростки овощной рассады тянутся к нему, и он улыбается им безресничными глазами. Именно овощам он подарил остатки своей жизни, и они произрастали у него в изобилии, достигая порой ошеломительных размеров.
– Неслыханно, – дивился не раз Ипат Лукинич, председатель из Макарихи, любитель чинной беседы. – Это уже не редька, а целый продукт!
– Нет, – себе на уме улыбался Вассиан, поглаживая хвостатого своего младенца. – А есть в этой земле нетронутая сила, и никто еще ее не раскопал. Везде я искал, по степу бродил, у башкеров бывал, в горы солдатиком вторгался, а краше Соти не обрел места на земле.
– Хлебушки-то у нас унылые, – возражал председатель, косясь на редьку, ибо пахли у Вассиана овощи.
– Не умеете силу раскопать, а живете, как цыган в палатке, без любви к месту, а все жадничаете, а за боговым тянетесь… – И принимался за повествование, как он сжигал накорчеванные пни, как рыл водоотводные каналы, а тощие, мытые пески ежегодно унаваживал нечистотами, которые растаскивал на собственной спине. В те сроки и пахло же от Вассиана; в трапезной врыт был для него особый стол, который все обходили. «Он злак любит, – говаривал про него хулительный брат Филофей. – Нюхнуть однова́, во́век не отплюёшься!»
…А пересмотрев рассаду, оделся в кожан и вышел на добровольное послушание. Туман наползал на берег, в природе торжественная начиналась ворожба. Он зашел за черпаком и корзиной, уже не пропускавшей жижи, и, помолясь на мысленный восток, двинулся в обход по ямам. Шла средина ночи. Посдвинув крышку, он черпал жидкую черноту, в которой иногда отражались звезды, и относил на грядки. Состарившись наедине с природой, он привык населять свою глушь существами, вычитанными из рукописных цветников; он привык угадывать их всюду, куда не умел добраться разумом, и скорбел сильно, что никогда не доводилось ему встретить беса и сразиться с ним. Близился закат дня его, а все медлил тот, и не удавалась встреча.
Об этом и раздумывал он у ямы, что близ самой кельи Тимолаевой, когда раздался крякот в дощатом нужничке, и оттуда вышел, застегиваясь, черный коренастый мужик в меховом картузе, незнаемый дотоле казначею, Распялив глаза, трепетно ждал Вассиан продолжения видению своему, а туман сгущался, пожирая лес, и на размытом том пространстве один предстоял Вассиан сбывшемуся своему мечтанию.
– Трудишься, отец? – полюбопытствовал бес, причмокивая как бы конфетку. – Видно, и у вас даром-то не кормят!
– Ямы вот чищу, – охрипло отвечал казначей.
– Чего же присматриваешься, аль признал?
– Ты бес… – путаясь в мыслях, сказал Вассиан.
– А бес, – чего же не вопишь? – засмеялся тот, и туман поколебался вокруг, как взбаламученные воды.
– Гласу нет…
Брезгливая горечь отразилась в лике беса.
– Ну, старайся, отец! – и, стуча по мосткам, сокрылся в тумане.
Внезапная немочь разлилась по телу казначея; спотыкаясь, он бежал по цельным грязям и вдруг негаданным образом оказался на берегу. В этот именно час тронулась Соть, а Балунь еще тужилась и синела, как нерожалая баба. Плотными хлопьями туман оседал на ветвях, расстилаясь от реки к реке. Мир покорно и леностно растворялся в нем, и, казалось, наступала та первозданная муть, в которой была разболтана когда-то вся последующая история людей, строительств и городов. Глухой треск наполнял ночь; огонек из Макарихи потерянно сиял в тумане, как заблудившаяся звезденка. Со страхом слушал Вассиан ворчливое пробуждение реки… Книголюбу, ведомы ему были обличье и повадки всех именитых бесов, но этот не походил ни на одного из них; Вассиан тогда не знал, что на деле еще бо́льшая их разделяет пропасть, чем та, которая лежит между чертом и монахом. Уже ссорясь с разумом, все домогался он имени новоявленного беса, а беса звали Б у м а г а.
III
Утром, заново вылупливаясь из небытия, вещи выглядели с наивной и несмелой новизною; вот так же и человек тотчас по сотворенье умел только петь и пел не краше петуха. Дул гулкий, мокрый ветер; слышалось в нем и сдержанное рычанье вод, и тягучие жалобы лесов, напоенных предвестьем гибели; мягкий, как теплая вода, он озноблял. С обеда Увадьева потянуло на тот песчаный мысок, под которым с Сотью сливалась нешустрая Балунь. Обе они, малые сродницы великой реки, долгие лесные версты текли извилисто, как бы отыскивая друг друга, и самое слияние их походило на робкое объятье двух разлученных однажды сестер. Сюда, на ветхую скамью, часто приходили, наверно, скитские старики любоваться на закаты, величавые, как вечность.

