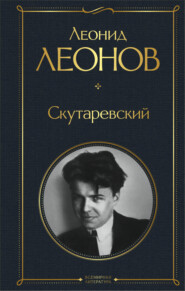
Полная версия:
Скутаревский
Он внимательно рассматривает побелевшие свои ногти.
– Да, это сотерн. Вы пили сотерн, молодой человек? Должно быть, подшипники мои сносились. Да, поступь ума моего стала тяжка; он уже не парит, он ползает, его брюхо в пыли. Он уже боится той самой логики, которую раньше делал сам. Посадите на моей могилке желтые цветы. Яростно люблю кадмий.
Реплика означает выздоровление; Черимов терпеливо прислушивается к стариковской воркотне. Выздоравливающие болтливы, как дети.
– Вы еще порядком побузите на этом свете, Сергей Андреич. Я никогда не чувствую разницы наших возрастов. Что?… мне?… вчера стало тридцать. Мне и сейчас хочется похлопать вас по плечу…
– Похлопайте, ничего. Со временем вы напишйте хороший некролог обо мне. Отметьте, что вся разработка вопроса о направленных антеннах принадлежит мне. Не отрекайтесь, у вас есть литературные способности… Да, кстати, что вы думаете об Арсении?
Ему хочется говорить; его томит жгучая потребность объяснить, сколько ему еще нужно сделать и как это ему трагически не удается. Сумерки делаются гуще. Простоволосые призраки ночи вприпрыжку скачут за окном: пар. Он тает и внезапно рождается вновь. Гремят стрелки, проскакивают огни, паровозные искры чертят на мраке тысячи осциллограмм.
– Я не видал его десять лет, Сергей Андреич. Я не знаю. Он был славный парень, но всегда с какой-то поправкой на интеллигентский истеризм… – И вдруг: – Сергей Андреич, вы обмолвились третьего дня Кунаеву про котлы, помните? Что означал ваш намек?
Напрасно он расчленяет слова зевотой, чтоб обмануть бдительность учителя. Тот знает, о чем думает этот скромный и требовательный ученик. Он молчит, и каждая протекающая минута притупляет остроту вопроса, поставленного врасплох.
– Мне скучно стало от речей, молодой человек. Я и в прежние годы их не терпел… Я даже как-то плешивею от молебнов. Будьте добры теперь, задерите шторку. Мерси…
Ночь входит в купе. Ноги тяжелеют, тело теряет ориентацию на вещи и внезапно утрачивает вес. Снова у входа в утопическую долину теснится человечество. Но все окутывается дымкой и мельчает, точно смотрит в обратную сторону бинокля. Потом пространство между сознанием и явью единым махом заполняет сон, огромный и мохнатый, как гора.
Глава 3
Открыв дверь своим ключом, он тихо вошел в квартиру и стоял там, как чужой, которого не приглашают войти. Он стоял долго, прислушиваясь к затухающему фырканью машины, на которой Черимов завез его домой. Все обстояло по-прежнему. Прямо перед ним, в просторной прихожей с лакированными обоями, возвышался шкаф, дубовый, замысловатой работы честного и бездарного мастера. Поистине это была вещь: она обладала собственным характером и запахом, она вселяла в посетителей подобающую месту серьезность, по веснам оттуда изобильно выпархивала моль, но, какой священный семейный инвентарь хранится там, так и не узнал никогда.
Высоко на шкафу стояли в тесноте серые от пыли гипсы – грек с вытекшим глазом, поэт со знаменитыми бакенбардами, лысая французская старуха, как зло изобразил ее Гудон, музыкант со стихийным лбом, распахнутым, как мишень, чудесный флорентиец, воспевший ад, окрестности любви, рядом с тем мантуанцем, которого избрал себе в путеводители, – и еще казалось, будто одному из них, умершему в самый год его рожденья, творцу богов, пророков и сивилл, все шепчет на ухо проницательный бородач из Пизы, что вот он обшарил космос и, отыскав закон, нигде не нашел бога. Позади, в тени и забвенье, теснились еще и другие, и тот же серый пепел судьбы одевал их непокрытые головы. Обращенные лицом к двери, они, казалось, приставлены были охранять драгоценный скарб Скутаревского, и лишь один стоял затылком, драматург в елизаветинском жабо, с зелеными кудрями; когда подрастал Сеник, любимец матери, ребенку давали играть с ним, и тот раскрасил этот бледный, величественный мел своею детской, неумелой акварелью. Весь этот пантеон недружелюбно взирал теперь на Скутаревского, который со сжатыми, в сущности, кулаками вторгался в собственный свой угол.
Сергей Андреич снял пальто и тихо повесил его на место.
Кто-то сидел у жены. Он прислушался, досадливо обернув ухо к коридору, откуда раскидывалась путаная анфилада профессорских комнат. Сиповато и в приподнятом стиле гость расхваливал высокое качество неизвестного товара. Речь шла о необыкновенной легкости формы, о насыщенной динамике и четкости фигур, о благородстве композиции, о сохранности – как будто не было впоследствии ни варваров, ни гуннов, ни христиан. И оттого, что расточительный поток этих мудреных слов поминутно прерывался раскатистым кашлем, а на полу, рядом с калошами, валялась мятая, гнусная шляпа, а на вешалке торчало знакомое пальто с проплатанным карманом, Сергей Андреич догадался, что это пресловутый Осип ІПтруф приволок на продажу какой-то неописуемый шедевр.
– …это разновидность чернофигурной амфоры, – так и свистели из Штруфа словесные брызги. – Вы видите эти пурпуровые искры на одеждах Артемиды и Коплита? Ясно, это круг мастера прекрасного Дианокла! Эта безумная вещь стояла в подвале, спрятанная от большевиков. Я пришел, я влюбился, я ходил к ней на свиданье каждую ночь, я забывал спать, я потерял на ней здоровье… Я продаю, потому что ее могут разбить собаки.
– Но по раскраске, – слабо сопротивлялась мадам, – это напоминает одну пепельницу… я видела у Петрыгиных.
– …и у ней была такая же, характерная для Коринфа, рубчатая розетка? И эти покатые плечи, эта ножка, чтоб прикоснуться к грешной земле?… – Он опять раскашлялся, точно раздираемый пополам, а тем временем подивился – какую мошенническую фантазию следовало иметь, чтоб у дурацкого сосуда из-под оливкового масла отыскать плечи и ноги. – Я пришел в первый раз – вещь эта лежала во мраке подвала. В углу проходила канализационная труба, и в ней всегда журчало что-то и храпело: дом был огромен. Я зажег спичку… – Холодом веяло от Штруфовых слов. – Из амфоры выбежала крыса, которая жила в ней. Она была старая, с облезлой спиной… Вы знаете, что некоторые породы крыс живут по двести семьдесят лет?… Я помню ее чуть красноватые вопросительные глаза. Спичка потухла, и в страхе я сбежал, но только затем, чтобы вернуться через неделю.
Стиснув зубы, Сергей Андреич прошел к себе, но скрипнуло под ним в рассохшемся паркете, и тотчас же жена догнала его у кабинета. Словно Сергей Андреич и не уезжал никуда, она заговорила быстрым привычным шепотом, каким разговаривают накрепко сжившиеся супруги: муж не имел времени вставить и слово, если бы даже и захотел. Она объяснила: Осип Бениславич просит за вазу такие пустяки, что Петрыгины, с которыми она давно соревновалась, в случае отказа немедленно ее перекупят. Притом ваза явно старая, из подвала, чудом уцелевшая от большевиков, редкой тематики, и, что самое главное, подлинность ее удостоверялась сертификатом брата Скутаревского, Федора Андреича, музееведа и художника по ремеслу. Жена торопилась выпалить свои доводы, потому что в столовой, где одиноко выкашливался Штруф, имелись незапертые ящики, а плачевная репутация Осипа Бениславича требовала особого присмотра и осторожности.
– Может быть, ты взглянешь сам? – Она предложила это лишь из дипломатии: муж никогда не вмешивался в ее приобретательскую деятельность. – И, кроме того, если это перевести по нынешним ценам на масло, то окажется совсем даром…
Брови Скутаревского дрогнули.
– Приготовь мне белье, Анна. Я иду в баню.
Она вскинула на него близорукие, в пенсне, глаза и испугалась его надтреснутого голоса: так звучит беда. Вокруг рушились инженерские благополучия, ломались карьеры, гибли репутации, распадались семьи, – она боялась всего. Она закусила губы, чтоб не выдать тревоги. Рядом с ней стоял, зябко потирая руки, совсем чужой человек, ничем не похожий на Сеника, и даже волосы на нем, глубокого янтарного отлива, стояли как-то дико. А всего страшнее было то, что никого ближе у нее не было в мире, с кем она могла бы посоветоваться о вазе. Тогда ей захотелось, чтоб он закричал, затопал на нее – вещь небывалая в их семейной практике, но тот не раскрывался и молчал. Она даже не порешилась прикоснуться щекой к его лбу, как делала всегда, чтоб узнать – есть ли жар; кстати, за последние четыре года Сергей Андреич как-то и не болел ни разу.
– Что с тобой?… ты болен?… ты потерял чемодан? – И вдруг ей стало не по себе на этой нелюдимой половине мужа.
Квартира негласно делилась на две неравные части; во второй, значительно большей, жили обособленно жена и сын, – даже и гости у них бывали разные, и это существенное различие начиналось именно со Штруфа. Бакалавр неопределенных наук – по его собственному признанию, а на деле акционер предприятия, в котором когда-то работал и Петрыгин, он аккуратно, не реже двух раз в неделю, забегал сюда со сверточкамис заднего хода. Его товар зачастую определял политическую ситуацию страны. Сперва он таскал крупу и масло, потом накрепко проперцованные анекдотцы, запретные новости, остренький слушок и, наконец, какую-то поблеклую бронзу из разбитых дворянских особнячков. Коллекция шедевров пополнялась; Анна Евграфовна утверждала, что кое-чем она не уступит и Люксембургскому музею, а фамилия Скутаревского, вырезанная на медной дощечке, надежно охраняла квартиру от всяких непрошеных вторжений.
Все здесь было заставлено, завешано вещами, а иное золоченой гроздью или хрустальной арабеской даже свисало с потолка. Кунаев, придя сюда впервые, испытал великое томление духа; его удушал затхлый аромат этих сомнительных сокровищ. Века и расы сварливо, подобно торговкам, состязались здесь, и было поучительно видеть, насколько по-разному гонялись прославленные художники за красотой, чтобы усадить ее в неуклюжую клетку своего искусства. Было чему дивиться Кунаеву: во что только не трансформировалась, пускай чужою волею, неукротимая гениальность этого примечательного человека. Глубочайших окрасок нефриты, овальные и прямоугольные холсты, старое резное дерево, стекло, из которого привередливый мастер изгнал его материальную тяжесть, цветистый и распутный фарфор, средневековая бронза, японские лаки, серебро – до крайности похожее на аугсбургское: мадам интересовалась всем. Отсутствие смысла замещалось формой; недостаток формы оправдывался ценностью материала; малая ценность прикрывалась стариной, и тогда самая ветхость обманывала порочной и расслабленной прелестью, готовою распасться на куски. Все это проигрывало на дневном свету, но вечером сверкало и слепило стихийным напором чужого и бесполезного вдохновенья.
– Осторожней… весь этот утиль имеет тенденцию падать на голову, – шутливо оправдывался хозяин и спешил увести гостя к себе. – Идемте отсюда, идемте. Мой ящик там…
То был действительно ящик, и состоял он из одной полутемной, окнами во двор, комнаты, которая не переклеивалась никогда. На сосновых незастекленных полках покоились труды инженерных ферейнов, технические словари, научная периодика и дремали классики электрофизики. Для работы имелся тут длинный, как койка, стол, да еще жесткая, как стол, койка, чтобы спать; кроме того, здесь же десятый год сохла араукария в кадке и еще притулился старомодный термоэлектрический прибор, стоявший без заметного употребления. Когда очередная работа не нуждалась в лабораторном опыте, Сергей Андреич энергично ходил по комнате, рассеянным взором блуждая по пятнистым стенам. Единственная, и то как-то боком, висела тут фотография Милликена, присутствующего на конгрессе энергетиков, да еще фагот – давнее и ставшее знаменитым увлечение Скутаревского; среди знакомых почему-то предмет этот числился под названиемдрандулета.
Часто в сумерки запахивались вплотную стеганные на вате портьеры, наглухо замыкались двери, – и в полупустой этой коробке, где на протяжении четверти века зарождались движущие идеи прикладной электротехники, начиналась странная звуковая возня, почти драка и порою даже как бы сражение Скутаревского с никому не ведомыми фантомами.
Должно быть, это и была мелодия его судьбы; несложная, как в курантах, она велась вся в среднем регистре, настойчиво и гнусаво повышаясь к концу…
Мадам терпеливо сносила это бедствие: сам Эйнштейн в пятнадцатом году играл вторую скрипку в оркестре, – первую вел один грек из Госплана, которого ей однажды показали в театре.
В такие часы Арсений Сергеич шутил сквозь зубы, что отец перекладывает на музыку свой очередной доклад в ВСНХ.
… И вот лицо Сергея Андреича отобразило гнев: драндулета не было на обычном месте. Там на могучем бронзовом крюке висел портрет длинноносого начальственного человека в берете и с выпяченной губой; из-за плеча выглядывала скверная его длинномордая собака. И хотя человек был одет в гофрированный атласный камзол, с буфами и красной оторочкой, а на руке имел перстень, было ясно, что это сам Штруф и есть, лишь в ненатуральном своем виде.
– Я просил не трогать моих стен, – сдержанно сказал Сергей Андреич и сделал решительный шаг к обезображенной стене; вдруг он заинтересованно, даже с подобием свиста, втянул в себя воздух: – Позволь, но ведь это сам твой Осип и есть, я узнаю его унылый сизый нос. Анна, да ведь это же глумленье!..
Жена торопилась оправдаться:
– Это портрет Франциска Первого… очень редкий. В Клюни висит только копия этого… Я хотела сделать какой-нибудь интимный подарок.
В действительности все обстояло проще: в ее комнатах просто не хватило стен на французского короля. Еще вчера вместе со Штруфом она поражалась мастерству и чуткости безымянного портретиста. Да, это был тот блистательный неудачник, но позади уже оставались грустная Павия и альказарское пленение; душевная болезнь уже притушила его глаза, смяла симметрию лица, и даже новеллы его веселой сестры, лежавшие на острых коленях, не могли рассеять смертной меланхолии.
– Да, да, это, конечно, Штруф. Теперь я сама вижу. Именно нос совсем как у Штруфа…
И, точно учуяв, что честность его подвергалась сомнениям в глазах постоянной клиентки, тот явился немедленно сам и уже расшаркивался в дверях. Нос его одевали роговые очки, и за их топазовой дымчатостью пряталось то главное, для чего он жил, а жил он, говоря по секрету, надеждой на возвращение утраченных акций. Центр его тяжести обретался где-то в коленях, вздутых пузырями и всегда подломленных вперед. И еще – всегда, где бы он ни стоял – у окна или даже на улице, в майский ли полдень или в ноябрьские потемки, лицо его было освещено неровно, смутно: такое освещение будет, если человека запихать под бильярд, что, по его словам, и проделала с ним судьба.
Явно, человек этот гибнул, и сперва не сознавал, а потом даже понравилось, и то, что вначале было ударом судьбы, теперь стало его профессией.
– Не правда ли, похож? – разом уловил он нить разговора, но подойти ближе ему, видимо, не позволяло благоразумие. – Федор Андреич допытывался, не потомок ли. Я отрекся, потому что бумаги утеряны, а карточки хлебной за такое родство лишат. Но я всецело согласен с вами, Сергей Андреич! Что общего имеет ваше имя с битым французским королем? Это даже компрометирует в такой обостренный момент, когда, знаете, интеллигенцию… Э, да что мне вам говорить! Вы слышали, Вараввин и Брюхе арестованы!.. Этому портрету место где-нибудь над лестницей, на хорах, исторические сюжеты следует содержать в темноте: обольстительно и благородно. Но повесьте лампочку в шестнадцать свечей, и очарование исчезает, а остаются рыла какие-то и кровь, кровь!.. Нет, лучше я вам приведу безобидную собаку. Редчайшей породы, хотя и маленькая… но ведь собаки растут быстро, как бамбук! Кстати, простите, что я без воротничка… – заключил он, прикрывая горло с жилистым кадыком.
Он говорил так длинно потому, что опасался – как только перестанет, тут его и выгонят.
Сергей Андреич кивнул на стену:
– Где мой инструмент?
– Он упал, – ответила жена с внезапно состарившимся лицом.
– Так, – очень твердо произнес и вдруг прорвался: – А короля выкинуть!.. такое… такое надо резать в ямах и заливать хлорной известью. А вам уголь грузить. Грузить некому, а вы лодырь… стыдно!.. – Он задохнулся и провел ладонью по лбу: – Выдай мне белье, Анна, я схожу все-таки в баню.
Все устраивалось, таким образом, ко всеобщему благополучию.
Когда Сергей Андреич вышел, мадам переждала минуту и обернулась к Штруфу с язвительным лицом:
– Я разделяю вполне гнев мужа. У меня самой идиосинкразия на такие лица. Сергей Андреич против покупки вашей вазы. Он вообще не терпит греков…
– Это невероятно!.. – отшатнулся Штруф.
– Да, но он может себе позволить это, милый Осип Бениславич! – играя пенсне, молвила мадам.
– Имя Сергея Андреича котируется очень высоко. Я бы даже сказал: – это готика! – И он покашлял, почтительно склоняясь. – Я слышал также, что он вступает в партию?
Мадам загадочно улыбнулась:
– Нет, это сплетня. Есть люди, которым выгодно бросить тень на него. Вы наследили, надо вытирать ноги. Итак, до свиданья, Осип Бениславич.
Штруф опустил голову и грустно глядел на левый свой башмак. Он был бескаблучный, со шнуровкой от самого носка, такие употребляют для коньков. Осип Бениславич думал о том, что недалек день, когда все откроется и старинные клиенты, тыча всякими словами, погонят его взашей. Вдруг он поджал отвалившуюся челюсть и вскинул голову:
– Прекрасно… Итак, собачку я вам затащу на днях!
Глава 4
Дело начинается со старой баньки, что стояла в низинке у реки, в стороне от уличных протоков, – ветхое одноэтажное зданьице, притаившееся среди безглазых фабричных корпусов. Они зычно ревели по утрам, они дышали в небо грузною летучей чернотою, они владычили на всю округу – банька же ничем не заявляла о своих древних неоспоримых правах. Простой и синий, синей синего моря опоясывал ее кушачок веселой вывески, и четыре ухватистые буквы плыли по ней, как из простонародной сказки парусатые корабли. В людные торговые дни, когда останавливалась гремучая жизнь корпусов, во весь спуск, до дощатого банного заборчика, выстраивались бабы с яблоками и пыряющими в нос квасами, носатые молодцы, с жесткими мочалками и карамелистыми мылами, выползали подпольные старцы с вениками, и тогда пахучий, в меру перебродивший товар их песенно шумел на речном, низовом ветерке. Сквозь замазанные известью оконца сочился смешной звук – помесь голоса, растворенного в гулком банном духу, и еще воды… великолепной воды, которая льется! Приходил сюда главным образом рабочий люд да еще угрюмая солдатская братва из соседней казармы, ибо на окраине стояло место. Так что, когда воспылало октябрьское пожарище, заведение пустовало, и Матвей Никеич Черимов, пожизненный банщик и сторож чужой раскладенной одежи, всю субботу высидел бездельно, изредка вздрагивая и просыпаясь от громов дальней пальбы.
Парился тогда в горячем отделенье один только отставной, на деревянной ноге, полковник, столь великий любитель, что, когда действовал он, никто другой не смел взобраться к нему на полок из-за жары. Парился он обычно сам, в мокром картузе, парился до того крайнего градуса, пока не грозило ему обратиться сразу в невесомое, газообразное состояние. Отпарившись же, пристегивал ногу, выползал в раздевальню и отлеживался часами, накрытый простынею; из-под нее ужасно, подобно указательному персту, торчала в пространстве его незатейная, на кожаном ходу, култышка. Был он молчалив, безвреден, кроме войны, не умел ничего, век доживал на пенсии и, будучи одиноким, на баню тратил все свои досуги… А тут, случилось, смешанный отряд рабочих и солдат отыскивал пристава, местного душителя и грозу; бежал тот от расправы и близ самой бани растаял как бы в ничто. Они вошли, шестеро, со штыками наперевес, прямо с перестрелки, за один тот день пропахшие въедливым военным запахом. Они увидели на лавке цветной, начальственный околыш и, хотя не было на нем ненавистной кокарды, засмеялись, всякий по-своему, но все об одном и том же. Они посмотрели на Матвея Никеича и подмигнули ему на мокрую дверь, из-под которой доносилось плесканье. Они втиснулись туда все шестеро разом, одинакие, как братья, молча и деловито; задний заметно шатался от усталости. Вышли они оттуда через минуту, слегка смущенные и потные от банной духоты. Они ушли, не оглянувшись на Черимова, который продолжал сидеть на лавке со строгим неподвижным лицом.
Розовую мыльную пену, расплеснутую по скользким ступеням, скатили водой, и потом очень скоро все забылось. Матвей Никеич был банщик и, чтоб не волноваться, удивления до себя не допускал. Самое снятие царя нисколько его не поразило; оно походило на снятие одного устаревшего монумента, которое ему удалось наблюдать и которое ему в высшей степени понравилось: генерала тащили, а тот покачивался и упирался, но вдруг упал, и вот раскололись на части бронзовые его шаровары. Видел он также, как вскрывали угодника в соседнем с его деревней монастырьке, и один приезжий из города для пущей наглядности скоблил мощи перочинным ножичком, но и это на него не подействовало. Одна только полковничья кончина произвела на него решительное действие. Он стал прислушиваться к разговорам людей, по-прежнему переполнявших баню в субботние дни. Голые, они бывали в особенности откровенны и не стеснялись выражать своими словами то, что волновало их в те поры. Раз Матвей Никеич спросил о знакомом слесаре, ранее не пропускавшем ни одной субботы. Ему ответили, что убит на деникинском, и тут же прибавили, что пора бы и ему, Матвею, повоевать маленько за рабочую власть.
– Куды мне, я банщик. Барабаны, что ли, таскать! – И отвернулся, покраснев.
До того случая был он этакая бородатая амеба, дикарь; из деревни выписали его мальчишкой; не видя ничего, кроме голых спин, он и сам с течением времени становился банным инвентарем. Если банька пустовала, он сидя спал, и кошмарные сны сказочного Анепсия-царя были детскими выдумками в сравнении с его видениями. Даже в молодости снились ему не бабы, не сражения, не обновы, а нечто лукавое и множественное: например, рыбы в пиджаках, либо сто тысяч архиереев единовременно, либо поле; а по нему ползают рогатые улитки, либо просто щека, но громадная и выбритая до такого лютого непотребства, что Матвейка отражался в ней весь, в натуральную величину. Тяжелей свинца была его подушка от застрявших в ней несуразиц… да и мало ли какие чудища бродят в дремучих лесах сновидений! С возрастом стали ему сниться бороды всевозможных покроев, как в парикмахерской, на парижском листе, различных мастей и вывертов, орда, целое нашествие бород, этакое шерстистое ликование. Тут он и сам от безделья стал отращивать себе бороду, и довольно успешно, и некому его было остановить.
Родни у него не было, брат умер еще до возникновения этой шалой прихоти, а племянник, прожив у дяди полгода, сбежал на тот же самый крошечный стеклянный заводишко, где работал и его отец; не терпел племянник ремесла, к которому начал приспосабливать его дядька. Матвей тогда не огорчился: «Молодели не жалей; щипаная-то, она кустистей растет!» Позже, еще совсем малолеток, племянник дрался на фронте, после чего неимоверными усилиями выбирался вверх по ступеням науки, а дядька все спал, выжидая своего часа. И поистине, нужно было выстрелить в него из мортиры, чтоб пробудить. Изредка, заезжая в столицу, Колька Черимов забегал навестить дядьку на его дырявом чердаке. Он присаживался на узкой койке и долго, пристально, прищуриваясь сквозь кулак, разглядывал своего несговорчивого родича. Тот сидел перед ним, большеротый, с огромными ноздрями, к людям прохладный, насмешливый, наблюдатель жизни, кошель неистребимой звериной силы.
– Никак, бороду мою смотришь? – выговаривал он наконец.
– Хороша, ты из ней ровно из багетовой рамы выглядываешь!
– Полезная вещь, – с тем же ядком соглашался дядя и поглаживал ее бережно. – Надысь в кино звали сыматься. Трешницу давали и пищу.
– Просто шелк… – все покачивался, стиснув зубы, племянник. – С такою и горла не простудишь: ровно в валенке. Не кури только, а то спалишь ненароком!
– Ничего, я ее храню.
В сущности, он нарочно рядился перед племянником в дикарскую свою наготу. Уже с год он обучился грамоте, и хоть с опозданием, но узнал, за что – не умерщвленный во многих знаменитых кампаниях – погиб безвинный полковник. Нарочно, чтоб пуще раззудить Кольку, он рассказывал в подробностях, как в свободные дни играет на дворе с ребятами в орлянку стертыми николаевскими пятаками; тот дрожащей рукой поглаживал растерзанный краешек одеяла, на котором сидел. Порою хотелось ему тряхнуть дядьку за плечи и кричать, кричать ему в ухо, как на митинге, – о, какою, дескать, лопатою мешать ленивые твои мозги! Но чердак был гулок и просторен, крик человека терялся тут, под глухою тесовою обшивкой. Тогда он молча снимал со стены и, в который раз, принимался разглядывать выцветшую от времени фотокарточку, где изображен был какой-то военный вполной форме и при усах. И еще там висело – но не девушка в венчике, не ангелок с пасхальным яйцом, а сам писатель Короленко, которого полюбил Матвей Никеич из-за его чудо-бороды.

