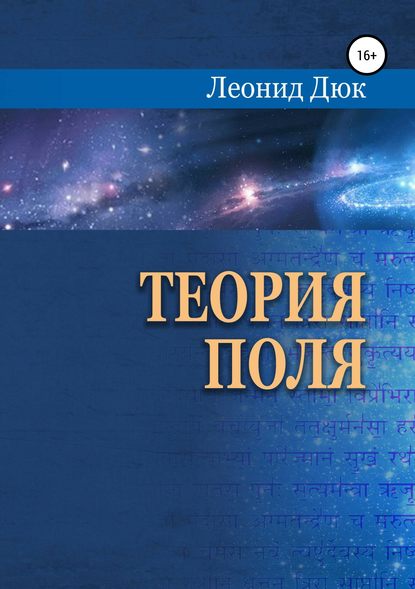 Полная версия
Полная версияТеория поля
Мама вопросительно посмотрела на сына, тот понял ее без слов.
– Ну, мы познакомились, я ей выразил свое расположение. Захочет – будем встречаться, не захочет – я тоже не буду из кожи вон лезть, чтобы завоевать эту принцессу.
Женщина охнула и всплеснула руками.
– Да ты что! Разве ж так можно! Женщины любят, когда их добиваются! К тому же я уверена, у тебя отличные шансы!
– Мам, я же говорю, я сказал ей, что она мне понравилась. Если не захочет – значит, не поняла своего счастья. Значит, глупая. А глупая мне не нужна.
Нонна Алексеевна только бессильно покачала головой.
– И в кого ты у меня такой упертый сноб? Ну ладно. Обещай мне только, что обязательно позвонишь ей еще хотя бы один раз. Согласись, она хороша, да?
– Ну да, согласен. Позвоню я ей, позвоню. Не волнуйся.
– Чуть не забыла, тебе письмо пришло. Возьми там у входа, на тумбочке, возле телефона.
Арсений вернулся в прихожую, нашел и распечатал конверт. Письмо было от Вики. Он прошел в свою комнату, включил бра, забрался с ногами на кровать и удобно зарылся в мягких подушках. «Красивый почерк», – подумал Козырев и принялся читать:
«Здравствуй, Арсений!
Хотелось назвать тебя как-нибудь ласково, но не смогла придумать подходящего имени. «Арсюша» как-то уж чересчур по-детски. Прошло уже несколько дней после твоего отъезда, а я все никак не могу в это поверить, не могу не ждать тебя каждый вечер во дворе, не верю, что тебя рядом нет, не слышу твоего голоса… Так грустно от этого. Не пойму, как же так быстро я смогла в тебе раствориться. Ты был для меня как прекрасный сон, и вот теперь пришло время пробуждения. Как не хочется просыпаться снова в эту обыденную, серую действительность!
Ты знаешь, я хочу тебе сказать, что, если у наших отношений нет будущего, это меня не страшит, я счастлива уже тем, что ты смог оставить в моем сердце и душе. Ты заставил меня увидеть мир другими глазами – это просто удивительно. Но самое поразительное в том, что я увидела настоящие отношения между мужчиной и женщиной – ты мне в этом помог. Я говорю «настоящие», потому что только теперь, когда появилась возможность сравнивать, мне стало понятно – то, что было раньше, лишь жалкое подобие, призрачная тень того волшебного состояния, которое может вызывать чувство к мужчине. Я поняла, как здорово гулять с действительно дорогим человеком, держа его за руку, ощущать тепло мягкой и в то же время сильной и надежной ладони. Как здорово посмотреть в его глаза и увидеть там безумное и одновременно трепетное влечение.
Арсений, а твоя улыбка – это просто сладкая мечта для любой женщины. Именно она сразила меня сразу и наповал. Увидев ее однажды, я поняла, что хочу видеть ее утром и вечером, зимой и весной, в горе и в радости. Для меня было величайшим открытием узнать, что мужчины могут быть такими искренними, настоящими, а не фальшивой оболочкой с гадкой начинкой. Почему-то мне ужасно хочется назвать тебя «родной мой», думаю, что ты был бы не против. Родной мой, дорогой человек, мне плохо, плохо, плохо без тебя! Ужасно терять чудо, с которым удалось соприкоснуться. Черт возьми, как же жизнь крута и непредсказуема! Как же я этого боялась, как всегда избегала подобных романов! А может быть, это хорошо? Без тебя я бы не узнала все эти новые оттенки прекрасного.
Ты, возможно, будешь удивлен, но твои рассказы о работе стали очень важны для меня. Так ты допустил меня в новый, необычный и неведомый до сих пор мир. Так дал почувствовать, что я не ночное приключение, а что-то близкое и родное для тебя. Я бы могла часами слушать твои доводы, гипотезы и доказательства. Конечно, для тебя они очевидны, но для меня открывались впервые в жизни. С тобой я поняла, как же удивительно устроен наш мир, как все продумано и гармонично, и, главное, мне это было ИНТЕРЕСНО! Для меня это открытие в самой себе: оказывается, я тоже могу думать и что-то понимать. За короткий срок ты произвел революцию в моей голове. Время покажет, во благо ли все это.
С каким настроением ты вернулся? Думаю, что ты «окунешься в работу» с новыми силами. И надеюсь, что в твоей жизненной суматохе останется немного времени для воспоминаний обо мне. Мне важно думать, что я тоже смогла тебя согреть и, конечно же, обаять. Чего только стоят воспоминания о том, как ты прижимал меня к дереву возле моего дома. Теплая ночь, луна, звезды, я, ты и дерево!!! Ты своими сильными руками прижимаешь меня к стволу, я не сопротивляюсь, а наоборот, бурно отвечаю на твои ласки. Мы целуемся со звериным нетерпением: больно, сладко, терпко, пьяняще… Как же здорово!!! Древесная кора царапает мне спину, твои руки – тиски, твои губы – огонь, твои глаза – желание! Возьми меня и оставь себе навсегда! Я – твоя, я могу быть твоей, я создана быть твоей, я должна быть твоей, я буду твоей – поверь мне!
Пишу письмо и вся горю изнутри. Как здорово, что ты даришь мне все эти радостные переживания. Даже когда далеко. Спасибо тебе, родной, благодарю тебя! Наверное, я просто люблю тебя! Вот и написала самые важные слова. Страшно, но в то же время легко и спокойно.
Знаешь, я написала это письмо, чтобы открыть тебе свои новые эмоции. Ты мне их дал, ты сотворил их во мне. Поэтому ты должен узнать, как это бывает. Спасибо тебе, родной! Ты сотворил чудо, а значит, ты волшебник! Это дано не каждому! Ты уникален, ты мой мужчина, теперь я знаю это твердо!
Целую! Надеюсь на твой звонок.
Твоя летняя волна Виктория».Глава 5
Первая официальная рабочая встреча недавно образованной научной группы «Вихрь» проходила в лаборатории Сафина, в одном из закрытых НИИ на окраине Москвы. Если все остальные институты в какой-то, пусть незначительной, степени, но все же пытались вписаться в новые для них рыночные отношения, то здесь по-прежнему безраздельно властвовал загнивающий развитой социализм.
Картину из недавнего советского прошлого гармонично дополнял неизменный атрибут минувшего тоталитаризма: кадровый сотрудник органов государственной безопасности. Роман Валерьевич Жидков, призванный блюсти режим секретности, а заодно присматривать за обычно свободолюбивыми и своенравными физиками, являлся неким посредником между наукой и безопасностью. Давно перестав быть ученым, он так и не сумел превратиться в настоящего чекиста в полном смысле этого слова. Его непосредственный начальник, полковник ФСБ Ибрагимов, сегодня отсутствовал. Вероятно, он и не собирался вплотную погружаться в нюансы работы группы, предоставив эту задачу на откуп своему ретивому подчиненному.
В ожидании начала профессора и академики разбрелись по помещению, лениво разглядывая обстановку. Некоторые из них, объединившись в небольшие группки, неспешно и тихо беседовали на отвлеченные темы. Формально дождавшись назначенного времени, Сафин громко обратился к присутствующим, обозначив тем самым начало мероприятия.
– Господа, я всех еще раз приветствую! Рассаживайтесь поудобнее, занимайте любые места, которые вам понравятся. Вот тут у нас есть доска, есть возможность демонстрировать слайды, так что, я думаю, проблем с восприятием информации не возникнет.
Гости расселись за столами, кто-то расположился на расставленных вдоль стены стульях. Ринат Рашидович оказался в центре импровизированного полукруга. Вышло довольно неформально и демократично. Сафин заметно мандражировал – еще бы, ведь ему впервые предстояло вынести свои довольно смелые разработки на суд столь авторитетной аудитории.
– С вашего позволения, я начну с самого начала. Наверняка некоторые вещи покажутся многим очень знакомыми, возможно, даже воспримутся кем-то как прописные, азбучные истины, но, тем не менее, коль скоро у нас присутствуют в том числе и чистые математики, далекие пока от наших физических проблем, я позволю себе небольшой экскурс в историю.
Все ободряюще кивали головами, поэтому руководитель группы, немного осмелев, продолжил:
– Начиная с эпохи Ньютона на протяжении веков ученые разных времен и народов периодически сталкивались с необходимостью введения некой субстанции, заполняющей все окружающее нас пространство и именуемой эфиром. Что же такое этот пресловутый эфир? Существует ли он на самом деле или это вынужденная абстракция, вводимая только в силу необходимости, в строго определенный момент развития науки, дабы объяснить конкретное, недавно обнаруженное явление?
У самого Ньютона отношения с эфиром складывались неоднозначные. В некоторых своих работах он признавал его существование, в других, наоборот, отрицал. Наверное, правильнее всего сопоставить эфир с дальнодействием. Едва только наука сталкивалась с очередным дальнодействием, как тут же возникала потребность в эфире. Ньютон со своей теорией гравитации в то время, безусловно, в нем нуждался. Например, он писал одному из своих друзей: «Мысль о том, чтобы одно тело могло воздействовать на другое через пустоту, на расстоянии, без участия чего-то такого, что переносило бы действие и силу от одного тела к другому, представляется мне столь нелепой, что нет, как я полагаю, человека, способного мыслить философски, кому она пришла бы в голову». Но Ньютон оставался верующим человеком, а его эфир был настолько похож на всепроникающую сущность – божественную сущность, – что он сам себя счел еретиком и всеми силами старался избегать публичных высказываний на эту щекотливую тему.
Затем ученые открыли электромагнетизм. И снова невидимая, но всеобъемлющая, пронизывающая пространство упругая среда явилась бы незаменимым природным свойством, помогающим объяснить постоянные преобразования электрического поля в магнитное и наоборот. На какое-то время эфир стал тем средством, которое объясняло все гравитационные и электромагнитные силы.
Потом была открыта истинная природа электромагнитного взаимодействия – квантовая теория, согласно которой электромагнитное излучение распространяется посредством минимальных порций энергии – квантов, а ее носителем является элементарная частица под названием фотон. Таким образом, потребности в эфире на время отпали.
Но наука не стояла на месте, и природа, словно издеваясь над учеными, подкидывала им все новые и новые факты, требующие то отрицания существования эфира, то его очередной реинкарнации. Сначала был опыт Физо, показавший, что скорость света в движущейся среде, а именно в воде, не подчиняется требованиям классической физики. Скорость света в направлении движения оказалась не равна арифметической сумме скорости света в стоячей воде и скорости воды. Напомню, что в то время еще не существовало теории относительности, а исходя из сугубо классических представлений получалось, что свет распространяется в неком эфире, который увлекается движущимся веществом лишь частично.
Но затем был опыт Майкельсона, который показал совершенно обратное. Майкельсон измерял скорость света по направлению движения Земли вокруг солнца и против этого движения. Измеряемое значение в любом направлении неизменно получалось строго одинаковым. Выходило так, что движение Земли сквозь эфир отсутствует.
Могильщиком эфира на некоторое время стал знаменитый Альберт Эйнштейн. В своей работе «К электродинамике движущихся тел» он говорит следующее: «Все наши попытки сделать эфир реальным провалились. Он не обнаружил ни своего механического строения, ни абсолютного движения. Все попытки открыть свойства эфира привели к трудностям и противоречиям. После стольких неудач наступает момент, когда следует совершенно забыть об эфире и постараться никогда больше не упоминать о нем». И вновь, как и во времена Ньютона, научная общественность пошла на поводу у признанного авторитета. Действительно, казалось странным, что эфир неподвижен в соответствии с опытами Физо, и при этом движется вместе с Землей в опыте Майкельсона.
По иронии судьбы через пятнадцать лет уже самому Эйнштейну потребовалась некая всепроникающая и вездесущая физическая среда. После создания своей общей теории относительности характер его высказываний резко изменился: «Мы не можем в теоретической физике обойтись без эфира, то есть континуума, наделенного физическими свойствами».
Однако наука побоялась возвращаться к уже набившему оскомину термину. Новую среду назвали физическим вакуумом. Таким образом, физическим вакуумом мы называем пространство, из которого удалена вся материя, все атомы и все элементарные частицы. Но, как и некогда к эфиру, отношение ученых к понятию физического вакуума далеко неоднозначное. И все же это абсолютно пустое пространство имеет вполне конкретные измеряемые и наблюдаемые физические свойства.
Пустота буквально кипит жизнью, кишит бурными квантовыми флуктуациями. Это бурлит «море Дирака», в котором постоянно рождаются из ничего и исчезают в никуда, уничтожая друг друга, частицы и античастицы.
Эйнштейн очень болезненно воспринимал принцип неопределенности Гейзенберга. Согласно этому основополагающему принципу квантовой механики, одновременно и точно определить координату и импульс элементарной частицы не представляется возможным. Измеряя один из этих двух параметров, мы при этом вносим такие возмущения в систему, что значение второго становится неопределенным. Все уравнения квантовой механики имеют вероятностный характер, а движение частицы определяется волновой функцией. Эта функция не указывает точное положение частицы, а лишь определяет те координаты, где она так или иначе может появиться. При многократном повторении одного и того же опыта исследователь получает каждый раз новые результаты, но зато в строгом соответствии с предсказанной вероятностью.
Эйнштейн не мог смириться с такой неоднозначностью. Он утверждал, что коль скоро мы вынуждены принять столь серьезные допущения, значит, квантовая теория просто-напросто не закончена. Что наша неспособность что-то определить еще не означает принципиальной невозможности такого определения. Он заявлял, что сторонники этой интерпретации «из нужды делают добродетель», что «Бог не играет в кости с Вселенной», а искусственно примененные вероятностные подходы говорят лишь о том, что наше знание о физике микромира является существенно неполным. В качестве аргумента вместе с Подольским и Розеном автор специальной и общей теорий относительности придумал гипотетический умозрительный эксперимент, который позже назвали ЭПР-парадоксом. Если частица распадется на две, то, измерив у одной частицы-осколка координату, а у второй – импульс, по закону сохранения импульса можно рассчитать импульс и у первой частицы-осколка. Таким образом, для нее будут точно и однозначно определены одновременно и импульс, и координата, что противоречит принципу неопределенности.
Необходимость разрешения ЭПР-парадокса привела к возникновению понятия нелокальности. В соответствии с данным понятием при изменении импульса одной частицы неизменно меняется состояние и у ее пары, независимо от расстояния между ними. Впоследствии ирландский физик Джон Стюард Белл сформулировал теорему, названную его именем. Согласно этой теореме, можно провести эксперимент, результаты которого смогут, наконец, дать ответ, что же на самом деле имеет место быть: то ли квантовая механика не полна, то ли принцип неопределенности все же справедлив, и между частицами действительно имеется нелокальная связь, посредством которой осколки распавшейся частицы в каждый момент времени имеют полную информацию о состоянии друг друга.
До настоящего момента в разных экспериментах получались различные результаты. Какие-то из них удовлетворяют неравенствам Белла, иные, наоборот, фиксируют их нарушение. Таким образом, этот фундаментальнейший физический спор все еще не разрешен до конца в чью-либо пользу.
Сафин сделал небольшую паузу. Физики откровенно скучали. Излагаемые докладчиком прописные истины были им хорошо и давно известны. Математики вроде бы слушали внимательно, но тоже особого энтузиазма не проявляли. Ринат Рашидович поспешил завершить вводную часть своего выступления.
– Ну что ж, пожалуй, теперь самое время перейти к сути нашего открытия.
Ученый подошел к проектору и положил на него первый слайд. Сверху и до самого низа аккуратным ровным почерком листок был исписан сложными математическими выкладками.
– Суть наших теоретических изысканий состоит в том, что мы попытались дополнить уравнения Эйнштейна, учтя определенным образом вращательное движение тела. В левой части уравнения используем обычный тензор энергии-импульса, а вот в правой части свойства пространства определим тензором следующего вида…
Сафин пустился в длительные, пространные объяснения сложных теоретических предпосылок и многоходовых математических преобразований. Коллеги внимательно следили, иногда перебивая вопросами, изредка вставляли важные замечания. Аудитория погрузилась в нормальную, увлеченную, рабочую атмосферу. Ринату Рашидовичу приходилось часто дорисовывать фломастером что-то на готовых слайдах. Временами он подходил к доске, чтобы изобразить очередную наглядную схему или же подробнее расписать наиболее сложный вычислительный переход. По завершении столь интенсивной многочасовой работы и докладчик, и слушатели изрядно утомились, но выглядели при этом вполне довольными. Сафин устало уселся на стул возле проектора. На какое-то время в помещении воцарилась тишина, завершив тем самым этап представления ранее достигнутых результатов. Первым нарушил ее Малахов:
– Ну что ж, для меня все выглядит вполне логично. Я не усмотрел здесь каких-либо математических несоответствий или неверных физических предпосылок. На первый взгляд, конечно. Позже надо будет посмотреть подробнее, но, думаю, тут все в порядке.
– Что касается математики, дорогой мой, то можете не сомневаться, математически все безупречно, – уверенно констатировал Шарбинский.
У Сафина просто камень свалился с души. Он очень боялся обоснованной критики известных ученых. Конечно, сам он был абсолютно уверен в результатах, но обладатели маститых имен вполне могли воспринять их двояко: слишком уж часто они бывают излишне ортодоксальны в своих консервативных суждениях.
– И все же, коллеги, как-то это все, мягко скажем, очень и очень непривычно, – резюмировал Кацман. – Я надеюсь, вы понимаете, что может следовать из полученных результатов?
– Я думаю, пока нам следует выделить одно, но самое главное следствие, – авторитетно ответил Евгений Михайлович, – и состоит оно в том, что теоретически предсказана возможность передачи некоего взаимодействия без передачи энергии. В силу отсутствия необходимости в энергии подобная передача может оказаться всепроникающей и, что еще более интересно, моментальной.
– Вот именно! Превышение скорости света! Как вам, а? Без лишней скромности! – воскликнул Кацман.
– Я тоже разделяю сомнения Марка Моисеевича, – согласился с ним Косаченко. – Уж очень радикальны предположения.
– Так ли уж? – возразил Малахов. – Речь, господа, может идти вовсе не о передаче материи. Это во-первых. А во-вторых, я не могу отделаться от мысли, что это все как-то уж очень похоже на поведение нейтрино. Вы не находите, Валентин Владимирович?
– Превышение нейтрино скорости света тоже пока не наблюдалось.
– Соглашусь, пожалуй! Но это потому, что нейтрино скорее всего все ж таки имеет небольшую энергию. А вы представьте, что ее нет. Одно дело наличие энергии, хоть и небольшой, а другое – полное ее отсутствие. Или даже отрицательное значение.
– И что же несет в себе это ваше иллюзорное взаимодействие? Если мы, конечно, вообще решим допустить факт его существования? – поинтересовался Валех Джафарович.
– Информацию! – воскликнул Сафин.
– Информацию?
– Да, информацию! Именно информация способна размножаться, не требуя ни дополнительной энергии, ни новой материи.
– Но ведь если информация передается моментально в любую точку Вселенной, значит, любая точка Вселенной в каждый момент времени содержит информацию о мгновенном состоянии всей Вселенной?
– Именно! – обрадовался Сафин, что его поняли правильно. – Только не о мгновенном состоянии, а о любом вообще!
– Ну погодите, Ринат Рашидович! – тут уже даже лояльно настроенный Малахов не смог безоговорочно согласиться. – Все ж таки столь смелый вывод кажется мне пока преждевременным!
– Информация о состоянии всей Вселенной… – задумчиво пробормотал Саадиев, словно пробуя идею на вкус. – Не очень представляю себе, что это могло бы означать? Что это? Банк знаний сразу и обо всем? Как это все может быть организовано? Что является носителем такой информации? В каком виде она хранится, как ее можно извлечь и использовать? Как ее, так сказать, интерпретировать? И можно ли это сделать в принципе?
– Ага! Мне почему-то видится набор ноликов и единичек. Некий шифр, едрит его за ногу! – съехидничал еще один участник обсуждения.
– Да, полностью поддерживаю. Базис может быть любым, но все равно это неизвестный код. Требуется инструмент, с помощью которого можно расшифровать. А иначе никак! – поддержал Саадиев.
– Уверяю вас, Валех Джафарович. Извлечь и использовать ее можно. По себе знаю. И инструмент такой есть – наше сознание. Я думаю, что мы в своей обычной, повседневной жизни постоянно используем информацию из этой универсальной базы знаний. Только ограниченно. Лишь ту, которая предоставлена нам по каким-то принципам организации доступа. А получить недоступную информацию пока удавалось лишь единицам, избранным, людям с определенными способностями. Да и то лишь весьма приблизительно. Не ясно и не четко. И как эти способности в себе воспитать, тоже толком неизвестно. Но если принципиальная возможность имеется, то должен существовать способ делать это надежно и достоверно, – ответил ему Малахов, намекая на свои экстрасенсорные эксперименты.
– Коллеги, вынужден вас предостеречь! Опомнитесь! Нас заносит в какую-то нереальную, фантастическую область! Осторожнее! Тут надо еще ой как подумать!
– Так именно для того мы и создали вашу группу, – подал голос Жидков. – Прошу вас, господа, милости просим. Думайте, изучайте, творите, открывайте, создавайте!
– Скажите, Роман Валерьевич, я ведь не ошибся, вас зовут Роман Валерьевич? – обратился Малахов к представителю ФСБ.
– Да, все верно.
– Так вот, я хотел спросить, есть ли эти материалы в каком-нибудь печатном, или, быть может, электронном виде? Было бы очень любопытно познакомиться с ними подробнее.
– Материалы есть, но выносить их отсюда запрещается.
– Позвольте, – вмешался Косаченко, – но господин Ибрагимов заверял нас, что мы сможем заниматься проектом на своих основных рабочих местах. Как же это осуществить, если нам не дают никаких материалов?
Жидков развел руками:
– Вам же нужно делать новые открытия, а не изучать уже готовые.
Ученые ошарашенно переглянулись.
– Не стоило и ожидать чего-то другого! – как подтверждение своих слов заключил Кацман. – Там, где начинаются чудеса, наука заканчивается!
– Наука, уважаемый Марк Моисеевич, как раз и превращает чудеса в реальность! Поэтому формально вы правы, а по сути ошибаетесь, – улыбнулся Малахов и повернулся к Сафину:
– Ринат Рашидович, я думаю, мы как-то сумеем решить этот вопрос с Ибрагимовым, не так ли?
Тот с некоторой неуверенностью, но все же подтвердил.
– Ну что же, коллеги, я думаю, мы весьма продуктивно сегодня потратили наше время. Предлагаю поблагодарить Рината Рашидовича за его достижения, за его очень грамотный и интересный доклад и разойтись по домам, дабы там в спокойной обстановке переварить огромное количество новой информации. Постараться, так сказать, объективно сформировать свое итоговое мнение.
Время уже было позднее, и здравая мысль Малахова тут же нашла дружную поддержку всех участников необычного совещания.
* * *– Арсений, у меня для тебя важное сообщение от твоего тайного небесного покровителя! – в трубке раздался возбужденный, но радостный голос Мусы Бурхана.
– О чем это вы, Муса Джи? – весело ответил Козырев.
– Опять это видение! – воскликнул гуру, не замечая иронии. – То же самое! Ну, то есть другое, но такое же. Я имею в виду… В общем, ты меня понял.
Ранее столь эмоциональная окраска не наблюдалась в речи мудрого, всегда обычно сдержанного йогина.
– Что ж, диктуйте, – Арсений взял ручку и приготовился записывать.
Торжественным голосом, четко проговаривая слова, провидец произнес:
– На первом пути потеряешь самое дорогое, на другом не узнаешь его вовсе. Выбирать придется между темным и светлым. Светлый в зените, но темный восходящий. Все во власти твоей.
– Н-да, – задумчиво промычал Козырев, после того как записал и несколько раз перечитал фразу. – А пояснее он, что, изъясняться не способен?
– Не богохульствуй! Ты должен понимать и ценить, какая тебе оказана великая честь!
– Да уж, честь… Скажите, Муса Джи, а вы точно уверены, что это, так сказать, пророчество действительно имеет ко мне отношение? Я и по поводу первого-то, если честно, сомневался…

