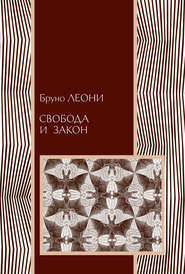
Полная версия:
Свобода и закон
Другая характерная черта законодательства в современном обществе (кроме нескольких примеров прямой демократии в маленьких политических общинах типа швейцарских Landsgemeinde) состоит в том, что законодатели в процессе законотворчества как бы представляют граждан. Что бы это ни значило – а что это значит, мы постараемся выяснить в этой книге – совершенно очевидно, что представительство, как и законодательство, не имеет ничего общего с процедурами, установленными в интересах научно-технического прогресса. Сама мысль о том, что ученого или изобретателя в ходе научных или технологических исследований должны «представлять» другие люди, не менее нелепа, чем мысль, что научные исследования следует доверить не конкретным индивидам, которые действуют как отдельные люди, даже когда объединяются в команду, а какому-нибудь законодательному собранию, уполномоченному принять решение большинством голосов.
Тем не менее тот способ принятия решений, который был бы немедленно отброшен в сфере научных и технологических исследований, все больше и больше применяется в сфере права.
В итоге современное общество находится в ситуации своего рода шизофренической раздвоенности, которую, однако, не только не осуждают, но даже почти не замечают.
Люди ведут себя так, как если бы их потребности в личной инициативе и в праве лично принимать решения почти полностью удовлетворялись фактом их личного доступа к плодам научно-технического прогресса. Как ни странно, их потребности в личной инициативе и праве лично принимать решения в правовой и политической сфере удовлетворяются с помощью церемониальных и чуть ли не магических процедур вроде выборов «представителей», которые, как предполагается, видимо, по наитию, обладают знанием о том, чего действительно хотят их избиратели, и в состоянии принимать решения, исходя из этого знания. Действительно, отдельные люди, по крайней мере на Западе, еще имеют возможность во многих отношениях принимать решения и действовать как личности: в торговле (как минимум, в значительной степени), в разговорах, в личных отношениях и во многих других видах социального взаимодействия. Однако они как будто бы раз и навсегда согласились с тем, что горстка людей, с которыми они, как правило, лично не знакомы, может решать, что должен делать каждый из них, причем границы компетенции этих людей либо неопределенно широки, либо практически отсутствуют.
То, что законодатели, как минимум, на Западе, пока не вмешиваются в такие области жизни людей, как их высказывания, выбор брачного партнера, путешествия или манера одеваться, обычно позволяет не обращать внимания на то, что на практике у них есть полномочия, чтобы вмешаться в любую из них. Однако другие страны, которые уже представляют собой картину совершенно другого рода, демонстрируют, насколько дальше в этом отношении могут зайти законодатели. С другой стороны, сегодня все меньше и меньше людей осознает, что, подобно тому как язык и мода возникают в результате стихийных действий и решений огромного числа отдельных людей, законы тоже могут быть результатом похожего процесса в других сферах.
Сегодня то, что нам не нужно доверять другим людям право решать, например, как нам разговаривать или проводить свободное время, мешает нам понять, что то же самое должно быть верно для огромной области других действий и решений, которые мы относим к сфере права. Наше нынешнее представление о законе находится под большим влиянием того, насколько огромное значение мы придаем законодательной функции, то есть воле других людей (кто бы они ни были) в отношении нашего повседневного поведения. Далее в этой книге я попытаюсь объяснить одно из главных последствий этого образа мыслей. Собственно, мы далеки от того, чтобы с помощью законодательства достичь идеальной определенности закона, в том практическом смысле, который этот идеал должен иметь для каждого, кто планирует свое будущее и в силу этого обязан считаться с юридическими последствиями своих решений в будущем. Законодательство почти всегда является четко определенным до тех пор, пока оно «действует», но люди никогда не могут быть уверенными, что действующее (на сегодняшний день) законодательство будет действовать завтра или даже завтра утром. Правовая система, в центре которой находится законодательство, не просто включает возможность того, что другие люди (законодатели) имеют право каждый день вмешиваться в наши действия; эти люди также имеют право каждый день менять способ своего вмешательства. В результате люди не только не могут свободно решать, что им делать, они не в состоянии даже предвидеть юридических последствий своих действий.
Невозможно отрицать, что причины сегодняшнего положения дел – в раздутом законодательстве и в огромном росте квазизаконодательной или псевдозаконодательной деятельности со стороны правительства. Нельзя не согласиться с такими исследователями, как Джеймс Бернем из США, Дж. У. Китон из Англии и Ф. А. Хайек, которые в последнее время с горечью констатировали ослабление традиционных законодательных полномочий конгресса США и «смерть» британского парламента в результате расширения квазизаконодательных полномочий исполнительной власти. Однако нельзя упускать из виду того, что в основе непрерывно увеличивающихся полномочий чиновников исполнительной власти всегда лежит какой-нибудь законодательный акт, позволяющий им, в свою очередь, действовать в роли законодателей, а также вмешиваться в этом качестве, почти без ограничений, в любые частные действия и нарушать любые интересы частных лиц. Парадокс нашего времени состоит в том, что нами управляют люди, но не потому, что, как утверждала бы классическая теория Аристотеля, нами не управляют законы, а потому что как раз законы нами и управляют. В этой ситуации было бы практически бесполезно апеллировать к закону для защиты от таких людей. Сам Макиавелли не придумал бы более хитроумного устройства, чтобы облагородить волю тирана, который притворяется простым чиновником, действующим в рамках совершенно законной системы.
Тот, кто ценит личную свободу действий и решений, не может избежать вывода, что в системе что-то не в порядке.
Я не утверждаю, что следует вообще отказаться от законодательства. Вероятно, такого никогда не случалось ни в одной стране. Однако я настаиваю на том, что с того момента, когда оно достигает некоторого предела, за который современное общество вышло уже давно, законодательство практически несовместимо с личной инициативой и правом принятия решений.
Я вполне серьезно полагаю, что те, кто ценит личную свободу, должны пересмотреть место индивида внутри правовой системы как таковой. Это более не вопрос защиты той или иной конкретной свободы – торговать, высказываться, объединяться с другими людьми и т. п.; это более не вопрос о том, какое «хорошее» законодательство мы должны принять вместо «плохого». Это вопрос о том, совместима ли в принципе личная свобода с нынешней системой, в которой законодательство является центром правовой системы, а правовая система практически отождествляется с законодательством. Такая точка зрения может показаться радикальной. Я не отрицаю этого. Но иногда радикальные взгляды более продуктивны, чем синкретические теории, которые гораздо лучше скрывают проблемы, чем способствуют их решению.
К счастью, нам не нужно искать убежище в Утопии, чтобы найти правовые системы, отличающиеся от современных. Например, история Древнего Рима и Англии учит нас совсем не тому, что проповедуют современные сторонники раздутого законодательства. Сегодня на словах все превозносят законодательную мудрость древних римлян и англичан. Однако мало кто понимает, в чем заключалась эта мудрость, а именно, насколько независимы от законодательства были их системы в том, что касалось повседневной жизни людей, и насколько обширна была сфера личной свободы и в Древнем Риме, и в Англии в те века, когда их правовые системы переживали максимальный расцвет. Даже удивительно, для чего продолжать изучать историю римского и английского права, если не обращать внимания на эту ключевую особенность.
И римляне, и англичане разделяли мысль о том, что закон – это нечто, что нужно открыть, а не ввести в действие, и что в обществе нет никого настолько могущественного, чтобы он мог отождествить свою волю с законом всей страны. В этих странах задача «открытия» закона была доверена юрисконсультам и судьям, соответственно; эти две категории людей сопоставимы, до определенной степени, с современными экспертами в области права. Это кажется особенно поразительным в свете того, что римские магистраты, с одной стороны, и британский парламент, с другой стороны, в принципе обладали (а второй обладает и поныне) почти деспотической властью над гражданами.
В течение столетий даже на континенте правовая традиция совершенно не сводилась к законодательству. Принятие Свода гражданского права Юстиниана в странах континентальной Европы стало вызовом для местных юристов, перед которыми в очередной раз встала задача выяснить, в чем состоит закон, причем в значительной степени без оглядки на волю правителей этих стран. Таким образом, континентальное право вполне обоснованно получило название «права юристов» (Juristenrecht) и никогда не теряло своего характера, даже в эпоху абсолютизма, предшествовавшего Французской революции. Даже новая эпоха законодательства в начале XIX века началась с очень скромной мысли о том, что надо бы пересмотреть и переформулировать право юристов, переписав его заново в форме кодексов, но ни в коем случае не извратив его с их помощью. Считалось, что законодательство будет представлять собой компиляцию предшествовавших судебных решений, а его сторонники постоянно подчеркивали, что его главное достоинство – четкость и особенно краткость, по сравнению с хаотической массой отдельных юридических сочинений, принадлежащих перу разных юристов. В качестве параллельного феномена, писаные конституции были приняты на континенте в основном для того, чтобы зафиксировать на бумаге принципы, по частям уже сформулированные английскими судьями в отношении основ законодательства Англии. В континентальных странах Европы XIX века и кодексы, и конституции воспринимались как средство выразить закон, который никоим образом не совпадал с волей большинства людей, которые вводили эти кодексы и конституции.
Тем временем возрастание значимости законодательства в англосаксонских странах в основном имело ту же функцию и воплощало ту же идею: переформулировать и сократить тот закон, который сложился на основе многовековой практики судебных решений.
Сегодня и в англосаксонских странах, и на континенте картина изменилась почти до неузнаваемости. Обычное законодательство и даже кодексы с конституциями все в большей и большей степени представляются в качестве прямого выражения воли большинства людей, которые их вводят, в то время как в основе часто лежит мысль о том, что роль этих актов в фиксации не тех законов, которые являются итогом многовекового развития, а тех, которые должны появиться в результате совершенно нового подхода и решений, не имеющих прецедента.
По мере того как человек с улицы постепенно привыкает к новой роли законодательства, он все больше и больше приучается к мысли о том, что оно соответствует не «общей» воле, то есть воле, которая по умолчанию присутствует у всех граждан, а выражению конкретной воли совершенно определенных людей и групп, которым повезло иметь на своей стороне в данный момент большинство законодателей.
Таким образом, законодательство претерпело весьма специфическую эволюцию. В результате оно все больше и больше напоминает диктат победившего большинства законодательных собраний по отношению к меньшинству; результатом этого часто бывает то, что привычные ожидания людей опрокидываются, а на смену им приходят совершенно новые. Проигравшее меньшинство, в свою очередь, приспосабливается к своему поражению только потому, что оно надеется раньше или позже стать победившим большинством и получить возможность относиться как к меньшинству к людям, которые пока составляют большинство. На самом деле, в законодательных собраниях большинство может создаваться и разрушаться в соответствии с регулярной процедурой, которую в наши дни методично анализируют некоторые американские исследователи; американские политики называют ее «взаимными услугами», а мы бы назвали «торговлей голосами». В каждом случае, когда группы представлены в законодательном собрании в недостаточной степени, чтобы навязать свою волю какой-либо не согласной с ними группе, они начинают торговлю голосами с максимально большим количеством нейтральных групп в законодательном собрании, чтобы группа-«жертва» оказалась в меньшинстве. Каждая из «нейтральных» групп, которая получает взятку сегодня, в свою очередь готова дать взятку другим группам, чтобы завтра навязать свою волю другим запланированным «жертвам». С помощью этой процедуры большинство законодательного собрания меняется, но всегда имеются «жертвы» и бенефициары, получающие выгоду за счет «жертв».
К несчастью, это не единственный серьезный недостаток раздувания, то есть инфляции, современного законодательного процесса. Законодательство всегда предусматривает определенного рода использование силы и неизбежное принуждение по отношению к индивидам, которые являются его объектами. Попытка рассматривать акты выбора, совершаемые индивидами в качестве членов группы, принимающей решения (например, избирательного округа или законодательного собрания), как эквивалент актов выбора, совершаемых в других областях человеческой деятельности (например на рынке), которую предприняли в последнее время некоторые ученые, игнорирует фундаментальное различие между двумя этими типами выбора.
Это правда, что успех как акта выбора индивида на рынке, так и актов выбора индивидов в качестве членов группы, зависит от поведения других людей. Например, если никто ничего не продает, то никто ничего не может купить. Индивиды, выбирающие на рынке, так или иначе, всегда вольны отказаться от своего выбора целиком или частично в каждом случае, когда им не нравятся его возможные результаты. Хоть это и не бог весть что, но у индивидов, которые пытаются сделать выбор в качестве членов группы (избирательного округа, законодательного собрания или какой-нибудь другой), нет даже такой возможности. Решение, которое принимает часть, победившая внутри группы, считается решением, принятым группой; и проигравшие члены не вольны даже отбросить результат выбора, если он им не нравится, до тех пор пока они не покинут группу.
Сторонники раздутого законодательства могли бы утверждать, что все это – необходимое зло, если группы должны принимать решения и их решения должны иметь силу. Альтернатива состояла бы в том, чтобы разбивать группы на уменьшающиеся части, вплоть до отдельных индивидов. В этом случае группа не могла бы больше принимать решения как единое целое. Таким образом, потеря личной свободы – это цена, которая платится за подразумеваемые выгоды от того, что группа работает как единое целое.
Я не отрицаю, что часто групповые решения могут быть приняты только ценой утраты индивидом свободы выбора и одновременно свободы индивида отказаться делать выбор. Я хочу подчеркнуть только то, что групповые решения стоят такой цены гораздо реже, чем это могло бы показаться поверхностному наблюдателю.
Замена законодательством стихийного применения не введенных законодательными актами правил поведения оправдана только в том случае, если доказано, что правила поведения либо являются неопределенными и недостаточными, либо приводят к какому-то злу, которого законодательство позволит избежать, одновременно сохраняя преимущества предшествующей системы. Современным законодателям такая предварительная оценка просто не приходит в голову. Наоборот, они как будто считают, что законодательство – это благо само по себе, а бремя доказывания лежит на людях, которые выступают против него. Мое скромное замечание состоит в том, что подразумеваемый ими тезис «закон (даже плохой) лучше, чем ничего» должен быть в несколько большей степени, чем сейчас, подтвержден доказательствами.
В то же время вопрос о том, насколько далеко можно заходить с введением какого-либо законодательства, пытаясь одновременно сохранить личную свободу, можно решить только в том случае, если мы полностью осознаем, в какой степени самим процессом законодательства подразумевается принуждение.
Представляется бесспорным, что на этом основании необходимо отказаться от законодательства во всех тех случаях, когда его используют исключительно как средство подчинить меньшинства и обращаться с ними как с проигравшими. Также представляется бесспорным, что необходимо отказаться от законодательного процесса во всех тех случаях, когда люди могут достичь своих целей вне зависимости от решений какой-либо группы и не принуждая других людей делать то, чего они никогда бы не сделали без принуждения. Наконец, представляется совершенно очевидным, что во всех тех случаях, когда возникает хотя бы тень сомнения относительно преимуществ законодательного процесса по сравнению с каким-либо иным процессом, имеющим целью определение правил нашего поведения, обращение к законодательному процессу должно быть итогом очень тщательной оценки.
Интересно, что осталось бы от существующего законодательства, если бы его подвергли испытанию в соответствии с этими правилами.
Как провести такое испытание – совершенно иной вопрос. Я не утверждаю, что это легкая задача. Очевидно, что истеблишмент готов встать на защиту инфляции законодательного процесса в современном обществе; не следует забывать и о предрассудках. Однако, если я не заблуждаюсь, рано или поздно каждый из нас столкнется с печальным результатом, который не обещает ничего, кроме постоянной нестабильности и общей подавленности.
Кажется, что в современном обществе нарушается очень древний принцип – принцип, который есть уже в Писании и, задолго до него, в конфуцианской философии: «Не делай другим того, чего ты не хотел бы, чтобы другие сделали тебе». Я не знаю ни одного принципа в современной философии, который был бы таким же ярким и кратким. Он может показаться примитивным по сравнению со сложными, иногда с украшениями в виде непонятных математических символов, формулами, которые так нравятся людям сегодня и в экономической теории, и в политических науках. Тем не менее принцип Конфуция и сегодня подходит для возрождения и сохранения личной свободы.
Несомненно, сложно обнаружить то, чего люди не хотели бы, чтобы с ними сделали другие. Но это все-таки легче, чем определить, что люди хотели бы сделать сами совместно с другими. Общую волю, то есть волю, общую для каждого члена общества, гораздо легче определить в плане ее содержания «негативным» способом, как в конфуцианском принципе, чем любым из «позитивных» способов. Никто не стал бы оспаривать то, что опрос любой группы с целью установить, что́ ее члены не хотели бы претерпеть в результате прямого действия других людей, дал бы более ясные и более точные результаты, чем любой опрос людей относительно их желаний. В самом деле, знаменитое правило «самозащиты» (self-protection) Джона Стюарта Милля не просто можно свести к конфуцианскому принципу – только в таком виде его и можно применять, потому что никто не смог бы окончательно решить, что опасно, а что нет, для каждого отдельного индивида в данном обществе, не узнав в конце концов мнения каждого члена общества. Они все должны решить, что является опасным, и это на самом деле то, чего каждый не хотел бы, чтобы другие с ним сделали.
Опыт показывает, что в каком-то смысле в любой группе не существует меньшинств по отношению к целой серии того, что «нельзя делать». Даже те люди, которые, вероятно, готовы сделать это с другими, не хотят, чтобы другие делали это с ними.
Указать на эту простую истину – это не то же самое, что сказать, что в этом отношении разницы между группами или между обществами не существует; и совсем не то же самое, что утверждать, что любая группа или общество на протяжении всей своей истории сохраняет одни и те же чувства и убеждения. Но никакой историзм и никакой релятивизм не могут помешать нам признать, что в любом обществе чувства и убеждения, относящиеся к действиям, которых нельзя делать, являются гораздо более однородными, чем любые другие чувства и убеждения, и что их гораздо легче идентифицировать. Законодательство, защищающее людей от того, что они не хотят, чтобы с ними делали другие люди, вероятно, будет легче определяемым и в большей степени успешным, чем любое законодательство, основанное на иных, «позитивных», желаниях тех же самых людей. Действительно, такие желания обычно не только куда менее однородны и совместимы друг с другом, чем «негативные», но, кроме того, их часто очень трудно определить.
Конечно, как подчеркивают некоторые теоретики, «всегда есть какая-то взаимосвязь между государственным аппаратом, который производит изменения в законодательстве, и общественным мнением сообщества, в котором планируется их применять»[3]. Единственное затруднение состоит в том, что эта взаимосвязь может очень мало значить относительно «общественного мнения сообщества» (что бы это ни значило) и даже меньше – относительно выражения реальных мнений людей, которых эти изменения затрагивают. Во многих случаях такой вещи, как «общественное мнение», не существует; нет никаких оснований удостаивать титулом «общественного мнения» частные мнения групп и индивидов, которые случайно оказались в положении, позволяющем им принять закон, часто с ущербом для других групп и индивидов.
Утверждение, что законодательство «необходимо» во всех тех случаях, когда другими средствами не удается «обнаружить» мнение заинтересованных лиц, было бы просто одним из способов уклониться от решения проблемы. Если другие средства не действуют, нет оснований предполагать, что подействует законодательство. Мы либо предполагаем, что «общественного мнения» по данному вопросу не существует, либо предполагаем, что оно существует, но его очень сложно обнаружить. В первом случае обращение к законодательству подразумевает, что законодательство является хорошей альтернативой отсутствию «общественного мнения»; во втором случае обращение к законодательству подразумевает, что законодатели знают, как обнаружить то «общественное мнение», которое нельзя обнаружить другими способами. И в том, и в другом случае следует тщательно проверить соответствующее предположение до того, как прибегать к законодательному решению, но абсолютно очевидно, что как раз этого никто и не пытается делать, и уж меньше всех – законодатели. То, что альтернативный вариант (то есть законодательство) является пригодным или даже необходимым, просто принимается как данность, в том числе теоретиками, которым следовало бы быть разумнее. Им нравится заявлять, что «то, что некогда считалось более или менее техническим правом юристов, сегодня может быть основанием для насущных экономических и политических мер», то есть для нормативных актов[4]. Так или иначе, и способ определить, что является «насущным», и критерии, которые требуются для того, чтобы признать нечто насущным, включая ссылки на «общественное мнение» по этому поводу, остаются не проясненными, в то время как возможность достичь удовлетворительного результата с помощью законодательного акта воспринимается как данность. Нужно только принять законодательный акт – и всё.
Исходя из рационального предположения о том, что у разных обществ не бывает одинаковых убеждений и, более того, многие чувства и убеждения трудно различить внутри одного и того же общества, нынешние сторонники раздутого законодательства приходят к поразительному заключению, что вследствие этого теми решениями, которые принимают живущие в обществе реальные люди, можно вообще пренебречь и заменить их решениями, которые принимает вместо них та кучка законодателей, которая в данный момент находится в большинстве.
С этой точки зрения, законодательство воспринимается как надежное средство сделать однородным то, что не было однородным, и установить правила там, где их не было. Таким образом, законодательство кажется рациональным или, как выразился бы Макс Вебер, является «одним из характерных компонентов процесса рационализации… проникающим во все сферы коллективного действия». Однако и Вебер позаботился о том, чтобы подчеркнуть это, с помощью расширения сферы законодательства и угрозы применения силы, которая обеспечивает его эффективность, можно достичь только ограниченного успеха. Это объясняется не только тем, что, как отмечал Вебер, «самые жесткие меры принуждения и наказания обречены на неудачу там, где субъекты отказываются подчиняться», и тем, что «власть права над экономическим поведением субъектов во многих отношениях ослабла, а не выросла по сравнению с более ранними условиями». Сегодня во многих случаях законодательство может оказывать и оказывает негативное влияние на эффективность правил и на однородность чувств и убеждений, уже господствующих в обществе. Дело в том, что законодательство может также намеренно или случайно разрушить однородность, уничтожив традиционные правила и отменив существующие конвенции и договоренности, которые до его принятия действовали и сохранялись по добровольному согласию. Еще более разрушительное влияние оказывает то, что сама возможность отмены договоренностей и обычаев с помощью законодательного вмешательства в долгосрочной перспективе обычно приводит к тому, что люди перестают опираться на любые существующие конвенции и соблюдать любые согласованные договоренности. При этом постоянное изменение правил, вызванное раздутым законодательством, не позволяет последнему успешно и на длительное время заменить собой те не оформленные законодательно правила (традиции, обычаи, договоренности), которые разрушаются по ходу процесса. Таким образом, то, что можно было бы в начале назвать «рациональным» процессом, в конце оказывается процессом саморазрушения.

