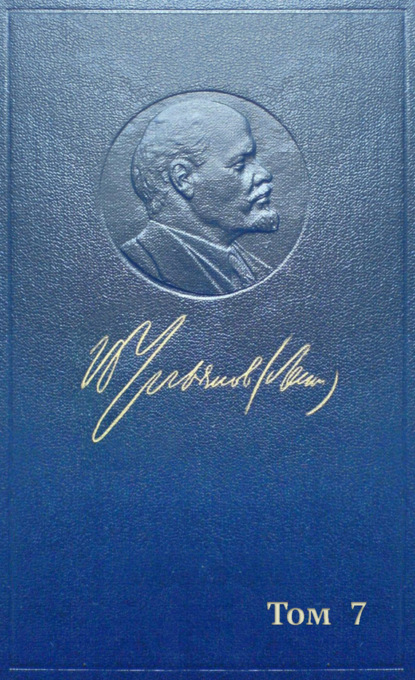 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Полное собрание сочинений. Том 7. Сентябрь 1902 ~ сентябрь 1903
Да, да, разные бывают представления о силе впечатлений, о силе убеждений, о значении убеждений, о совместимости политической нравственности и политической убежденности с выставлением ценных своею неопределенностью лозунгов…
В заключение не могу не отметить некоторых заявлений г. Струве, значительно «омрачающих» приятное впечатление от его поворота влево. Выставив только одно демократическое требование (всеобщей подачи голосов), г. Струве спешит уже говорить о «либерально-демократической партии». Не раненько ли? Не лучше ли было бы сначала точно указать все те демократические преобразования, которых безусловно требует партия не только в аграрной и рабочей, но и в политической программе, а потом уже наклеивать ярлык, потом уже претендовать на повышение из «ранга» либералов в ранг либеральных демократов? Ведь всеобщая подача голосов есть тот минимум демократизма, который признан даже некоторыми консерваторами, примирившимися (в Европе) с выборами вообще. А дальше этого минимума г. Струве почему-то не идет ни в № 17, ни в № 18. Мы отметим далее, мимоходом, курьезное замечание г. Струве, что проблема социализма должна быть совершенно оставлена в стороне либерально-демократической партией «прежде всего потому, что социализм в самом деле только еще проблема». А не потому, почтеннейший г. Струве, что «либерально-демократические» элементы русского общества выражают интересы классов, противящихся социалистическим требованиям пролетариата? Это – мимоходом, повторяю, чтобы отметить новые приемы «отрицания» социализма гг. либералами. По существу же дела, разумеется, г. Струве прав, что либерально-«демократическая» партия не есть партия социалистическая и неприлично было бы для нее корчить из себя таковую.
Насчет тактики новой партии г. Струве выражается как нельзя более уклончиво. Это очень жаль. И еще более жаль, что он опять и опять повторяет и подчеркивает необходимость «двуединой тактики» в смысле «умелого, гибкого и неразрывного совмещения» легального и нелегального приемов действия. В лучшем случае, это – отговорка от настоятельных вопросов о приемах нелегальных действий. А вопрос этот настоятелен, потому что только систематическая нелегальная деятельность определяет на деле физиономию партии. В худшем же случае, это – повторение того вилянья, которым отделывался г. Струве, когда он писал о «правах и властном земстве», а не об открыто и решительно конституционной и «демократической» партии. Всякая нелегальная партия «совмещает» нелегальные и легальные действия в том смысле, что она опирается на массы не участвующих прямо в «нелегальщине» людей, что она поддерживает легальные протесты, пользуется легальными возможностями пропаганды, организации и проч. Это общеизвестно, и не об этом говорят, когда говорят о тактике нелегальной партии. Говорят о бесповоротном признании этой партией борьбы, о выработке способов борьбы, об обязанности членов партии не ограничиваться легальными протестами, а все и вся подчинять интересам и требованиям революционной борьбы. Если нет систематической нелегальной деятельности и революционной борьбы, то нет и партии, которая бы могла действительно быть конституционною (не говоря уже о том, чтобы быть демократическою). И нельзя принести большего вреда делу борьбы, как смешивая революционную работу, опирающуюся на широкую массу, использующую широкие организации, помогающую политическому воспитанию легальных деятелей, с работой, ограничивающейся рамками легальности.
«Искра» № 37, 1 апреля 1903 г.
Печатается по тексту газеты «Искра»
Les beaux esprits se rencontrent (по-русски примерно: свой своему поневоле брат)
Знаменитая аграрная программа-минимум наших социалистов-революционеров (кооперация и социализация) обогатила русскую социалистическую мысль и русское революционное движение в июне 1902 года. Немецкая книга известного оппортуниста (бернштейнианца{64} тож) Эдуарда Давида «Социализм и сельское хозяйство» вышла в свет в феврале 1903 года. По-видимому, не может быть и речи о том, чтобы последующее произведение оппортунистической мысли заключало в себе оригинал предыдущих упражнений «социалистско-революционной» мысли? Но как же объяснить тогда поразительное, бросающееся в глаза сходство и даже принципиальное тождество программы русских соц.-рев. и немецких оппортунистов? Не является ли уже «оригиналом» «Революционная Россия», а копией – «капитальный» (по отзыву корреспондента «Русских Ведомостей»{65}) труд Давида? Две основные идеи, и соответственно им два главных пункта программы, проходят красной нитью через весь «труд» Давида. Он воспевает сельскохозяйственные кооперации, ожидая от них всех благ, требуя содействия их развитию со стороны социал-демократии и не замечая (совсем как наши соц.-рев.) буржуазного характера этих союзов мелких хозяйчиков с мелкими и крупными капиталистами в земледелии. Давид требует превращения крупных земледельческих хозяйств в мелкие, восторгаясь выгодностью и рациональностью, экономностью и производительностью хозяйств «des Arbeitsbauern» – по-русски буквально: «трудового крестьянина», выставляя верховное право собственности общества на землю и пользование землею вот этих мелких «трудовых крестьян». Положительно, немецкий оппортунист совершил плагиату русских «социалистов-революционеров»! Мелкобуржуазности «трудового крестьянина» в современном обществе, его промежуточного, переходного положения между буржуазией и пролетариатом, его стремления «выйти в люди» (т. е. стать заправским буржуа) путем бережливости, усердия, недоедания и чрезмерной работы, его стремления к эксплуатации труда сельских «работников», – ничего этого не видит, конечно, ни немецкий мелкий буржуа-оппортунист, ни русские мелкие буржуа – «социалисты-революционеры».
Да, да, les beaux esprits se rencontrent, и в этом заключается разгадка столь трудной, на первый взгляд, задачи: определить, где копия и где оригинал. Идеи, выражающие потребности, интересы, стремления и вожделения известного класса, носятся в воздухе, и скрыть тождество этих идей не в силах никакое разнообразие костюма, никакие варианты то оппортунистической, то «социалистски-революционной» фразы. Шила в мешке не утаишь.
Во всех европейских странах, в России в том числе, неуклонно идет вперед и «утеснение» и упадок мелкой буржуазии, не всегда выражающийся в ее прямом и непосредственном вытеснении, но в громадной массе случаев ведущий к сужению ее роли в экономической жизни, к ухудшению ее условий существования, к усилению ее необеспеченности. Все ополчается против нее: и технический прогресс крупных хозяйств в промышленности и в земледелии, и развитие крупных магазинов, и рост предпринимательских союзов, картелей и трестов, и даже рост потребительных товариществ и муниципальных предприятий. А наряду с этим «утеснением» мелкой буржуазии в земледелии и промышленности идет нарождение и развитие «нового среднего сословия», как говорят немцы, нового слоя мелкой буржуазии, интеллигенции, которой тоже все труднее становится жить в капиталистическом обществе и которая в массе своей смотрит на это общество с точки зрения мелкого производителя. Совершенно естественно, что отсюда с полной неизбежностью вытекает широкое распространение и постоянное возрождение в самых разнообразных формах мелкобуржуазных идей и учений. Совершенно естественно, что русский «социалист-революционер», всецело плененный идеями мелкобуржуазного народничества, оказывается «поневоле братом» европейского реформиста и оппортуниста, который, когда хочет быть последовательным, неизбежно договаривается до прудонизма{66}. Именно этим последним термином и характеризовал Каутский совершенно справедливо программу и точку зрения Давида.
Мы сказали: «когда хочет быть последовательным», и подошли таким образом к той существенной особенности, – отличающей современных соц.-рев. и от старого русского народника и от некоторых, по крайней мере, европейских оппортунистов, – которую нельзя не назвать авантюризмом. Авантюризм не думает о последовательности, стараясь только уловить момент, воспользоваться борьбой идей для оправдания и сохранения безыдейности. Старый русский народник хотел быть последовательным и отстаивал, проповедовал и исповедовал свою особую программу. Давид хочет быть последовательным и решительно восстает против всей «марксистской аграрной теории», решительно проповедует и исповедует превращение крупных хозяйств в мелкие, не боясь, по крайней мере, иметь смелость своего мнения, не боясь открыто выступить сторонником мелкого хозяйства. Наши соц.-революционеры… как бы это помягче выразиться?., гораздо «благоразумнее». Они никогда не восстают решительно против Маркса, – боже сохрани! Они, напротив, походя сыплют цитатами и Маркса и Энгельса, уверяя со слезами на глазах, что они с ними почти во всем согласны. Они не ополчаются на Либкнехта и Каутского, – напротив, они глубоко и искренне убеждены, что Либкнехт был соц.-революционер, – ей богу, был соц.-революционер. Они не выступают принципиально сторонниками мелкого хозяйства, – напротив, они горой стоят за «социализацию земли», и только невзначай случается им проговориться, что эта всеобъемлющая, русско-голландская социализация означает все что угодно: и переход земли в собственность общества и в пользование трудящихся (совсем как у Давида!), и просто переход земли в руки крестьян, и, наконец, совсем уже «просто»: даровую прирезку…
«Благоразумные» приемы наших соц.-рев. до такой степени уже знакомы нам, что мы позволим себе, в заключение, дать им один благой совет.
Вы попали в не очень ловкое положение, господа, что и говорить. Все время уверяли, что не имеете ничего общего ни с оппортунизмом и реформизмом на Западе, ни с мелкобуржуазными симпатиями к «выгодному» мелкому хозяйству, – и вдруг является книга заведомого оппортуниста и сторонника мелкого хозяйства, который с трогательной скрупулезностью «копирует» вашу «социально-революционную» программу! Положение, можно сказать, хуже губернаторского. Но не смущайтесь: из него легко выпутаться. Стоит только… цитировать Каутского.
Пусть не думает читатель, что это описка. Нисколько. Каутский ополчается против прудониста Давида, – именно поэтому солидарные с Давидом соц.-рев. должны цитировать Каутского совершенно так же, как они уже цитировали раз Энгельса. Возьмите № 14 «Рев. России», и вы прочтете там на странице седьмой, что «перемена тактики» у соц.-дем. по отношению к крестьянству «была узаконена» (!!) одним из отцов научного социализма, Энгельсом, – Энгельсом, который ополчился против менявших тактику французских товарищей!{67} Как можно доказать это фокусническое положение? Очень просто. Надо, во-первых, «цитировать» слова Энгельса, что он стоит решительно на стороне мелкого крестьянина (и умолчать о том, что именно эту самую мысль выражает программа русских социал-демократов, зовущая всех трудящихся на сторону пролетариата!). Надо, во-вторых, по поводу «уступок бернштейнианству» со стороны менявших тактику французских товарищей, сказать: «смотри превосходную критику этих уступок у Энгельса». Вот этот самый, испытанный, прием мы советуем господам соц.-рев. употребить и теперь. Книга Давида узаконила перемену тактики в аграрном вопросе. Теперь уже нельзя не сознаться, что можно оставаться в рядах социал-демократической партии с программной «кооперацией и социализацией»; только догматики и ортодоксы могут не видеть этого. Но, с другой стороны, надо признаться, что Давид, в отличие от благородных соц.-рев., делает некоторые уступки бернштейнианству. «Смотри превосходную критику этих уступок у Каутского».
Право, господа, попробуйте. Может быть, и еще разок выгорит.
«Искра» № 38, 15 апреля 1903 г.
Печатается по тексту газеты «Искра»
Ответ на критику нашего проекта программы{68}
Товарищ Икс отвергает третий и четвертый пункты аграрной части нашего проекта и предлагает свой проект с видоизменением всех пунктов, а равно и общего введения к аграрной программе. Рассмотрим сначала возражения тов. Икса против нашего проекта, а потом его собственный проект.
Против третьего пункта тов. Икс возражает, что предлагаемая нами конфискация монастырских (мы охотно добавили бы: и церковных) и удельных имений означала бы расхищение земель за бесценок капиталистами. Именно грабители крестьян на награбленные деньги и скупили бы эти земли, говорит он. Мы заметим на это, что, говоря о продаже конфискованных имений, тов. Икс делает произвольное заключение, которое еще не содержится в нашей программе. Конфискация означает отчуждение собственности без вознаграждения. Только о таком отчуждении и говорится у нас. О том, продавать ли эти земли, кому и как, в каком порядке и на каких условиях продавать, – наш проект программы не говорит ни слова. Мы не связываем себе рук, предоставляем себе определить наиболее целесообразную форму распоряжения конфискованными имуществами тогда, когда они будут конфискованы, когда будут ясны все социальные и политические условия такой конфискации. Проект товарища Икса отличается в этом отношении от нашего, требуя не только конфискации, но и передачи конфискованных земель «во владение демократического государства для наиболее удобного пользования ими населением». Следовательно, тов. Икс исключает одну из форм распоряжения конфискованным (распродажу) и не определяет точно какой-либо определенной формы (ибо остается неясным, в чем именно состоит или состоять будет или должно состоять «наиболее удобное» пользование и какие именно классы «населения» и на каких условиях получат право пользования). Таким образом, полной определенности в вопросе о способе распоряжения конфискованными землями тов. Икс все равно не вносит (да и нельзя определить этого заранее), а распродажу, как один из способов, он исключает напрасно. Неправильно было бы сказать, что при всяких условиях и всегда социал-демократия будет против распродажи. В полицейско-классовом, хотя бы и конституционном, государстве класс собственников может быть нередко гораздо более прочным оплотом демократии, чем класс арендаторов, зависящих от этого государства. Это с одной стороны. А с другой стороны, превращение конфискации в «подарок капиталистам» предусматривается (поскольку может вообще идти речь о предусматривании этого в формулировке программы) гораздо больше нашим проектом, чем проектом тов. Икса. В самом деле, допустим самое худшее: допустим, что рабочая партия, несмотря на все свои усилия, не могла обуздать своеволия и корысти капиталистов[49]. В этом случае формулировка тов. Икса предоставляет полный простор «наиболее удобному» пользованию конфискованными землями со стороны капиталистического класса «населения». Наоборот, наша формулировка, не связывая основного требования с формой его реализации, предусматривает, однако, одно строго определенное назначение сумм, полученных от такой реализации. Когда тов. Икс говорит, что «с.-д. партия не может взять на себя задачу вперед предрешить, в какой конкретной форме народное представительство использует земельный фонд, находящийся в его руках», то он смешивает две различные вещи: способ реализации (иначе: «форму использования») фонда и назначение полученных от реализации сумм. Оставляя совершенно неопределенным вопрос о назначении этих сумм и связывая себе хотя отчасти руки в вопросе о способе реализации, тов. Икс вносит двоякое ухудшение в наш проект.
Равным образом неправ, по нашему мнению, тов. Икс, когда возражает нам: «получить выкупные платежи обратно от дворян также нельзя, так как многие из них все промотали». Это, собственно говоря, вовсе не возражение, ибо мы и не предлагаем просто «получить обратно», а предлагаем особый налог. Тов. Икс сам приводит в своей статье данные, что крупные землевладельцы особенно большую долю крестьянской земли «отрезывали» в свою пользу, захватывая иногда до трех четвертей крестьянской земли. Совершенно естественно поэтому требование именно крупных землевладельцев-дворян обложить особым налогом. Совершенно естественно также дать добытым этим путем суммам именно то особое назначение, которого мы требуем, ибо сверх общей задачи возвращения народу всех доходов, получаемых государством (задачи, осуществимой вполне лишь при социализме), перед освобожденной Россией неминуемо встанет еще специальная и особенно настоятельная задача поднятия жизненного уровня крестьян, задача серьезной помощи той массе нищих и голодных, которая так непомерно быстро растет при пашем самодержавном строе.
Перейдем к четвертому пункту, который тов. Икс отвергает целиком, хотя рассматривает исключительно первую его часть – об отрезках, и ни слова не говорит о второй части, предусматривающей устранение остатков крепостного права, различных в различных местностях государства. Начнем с одного формального замечания автора: он видит противоречие в том, что мы требуем уничтожения сословий и учреждения крестьянских, т. е. сословных, комитетов. На самом деле, тут противоречие только кажущееся: для уничтожения сословий требуется «диктатура» низшего, угнетенного сословия, – точно так же, как для уничтожения классов вообще и класса пролетариев в том числе требуется диктатура пролетариата. Вся наша аграрная программа имеет целью уничтожение крепостнических и сословных традиций в области аграрных отношений, а для такого уничтожения возможно апеллировать единственно к низшему сословию, к угнетенным этими остатками крепостного порядка.
По существу дела, главным возражением автора является следующее: «едва ли доказуемо», что отрезки являются главнейшим базисом отработочной системы, ибо величина этих отрезков зависела от того, были ли крестьяне при крепостном праве оброчными и, следовательно, многоземельными, или барщинными и, следовательно, малоземельными. «Размеры отрезков и их значение обусловливается комбинацией исторических условий» и, например, в Вольском уезде в небольших имениях процент отрезков ничтожен, а в крупных имениях – громаден. Так рассуждает автор, не замечая, что он уходит в сторону от вопроса. Несомненно, что отрезки распределены крайне неравномерно и в зависимости от комбинации самых различных условий (в том числе и от такого условия, как существование барщины или оброка при крепостном праве). Но что же это доказывает? Разве отработочная система не распределена тоже крайне неравномерно? Разве ее существование не определяется тоже комбинацией самых различных исторических условий? Автор берется опровергнуть связь между отрезками и отработочной системой, а рассуждает только о причинах отрезков и различий в их величине, ровно ничего не говоря об этой связи. Только однажды автор выставляет утверждение, подходящее вплотную к сути его тезиса, и именно в этом утверждении он совершенно неправ. «Следовательно, – говорит он, подводя итог своим рассуждениям о влиянии оброка или барщины, – там, где крестьяне были барщинными (главным образом в центральном земледельческом районе), эти отрезки будут ничтожными, а там, где были оброчными, – вся помещичья земля может составлять «отрезки»». Подчеркнутые нами слова заключают в себе крупную ошибку, разрушающую всю аргументацию автора. Именно в центральном земледельческом районе, этом главном центре отработков и всяких остатков крепостничества, отрезки не «ничтожны», а громадны, отрезки гораздо выше, чем в нечерноземной полосе с ее преобладанием оброка над барщиной. Вот данные по этому вопросу, доставленные мне одним товарищем, статистиком по специальности{69}. Он сравнил данные «Военно-статистического сборника» о землевладении помещичьих крестьян до реформы с данными статистики поземельной собственности 1878 года и определил таким образом величину отрезков по каждой губернии. Оказалось, что в девяти нечерноземных губерниях[50] у помещичьих крестьян было до реформы 10 421 тысяча десятин, а осталось в 1878 г. – 9746 тыс. десятин, т. е. отрезано 675 тыс. лес. или 6,5 % земли, отрезано по 72,8 тыс. дес. в среднем на губернию. Напротив, в 14 черноземных губерниях[51] у крестьян было 12 795 тыс. дес, а осталось 9996 тыс. дес, т. е. отрезано 2799 тыс. дес. или 21,9 %, отрезано в среднем на губернию по 199,1 тыс. дес. Исключением является только третий район, степной, где в пяти губерниях[52] у крестьян было 2203 тыс дес, а осталось 1580 тыс. дес, т. е. отрезано 623 тыс. дес. или 28,3 %, отрезано в среднем на губернию по 124,6 тысяч дес.[53]. Этот район является исключением, ибо здесь преобладает капиталистическая система над отработочной, тогда как процентный размер отрезков здесь наибольший. Но это исключение скорее подтверждает общее правило, ибо здесь влияние отрезков было парализовано такими крупными обстоятельствами, как наибольшие наделы у крестьян, несмотря на отрезки, и наибольшее количество свободного земельного фонда для аренды земли. Таким образом, попытка автора усомниться в существовании связи между отрезками и отработочной системой совершенно неудачна. В общем и целом, не подлежит сомнению, что центр отработочной системы в России (средне-черноземный район) есть в то же время и центр отрезков. Мы подчеркиваем «в общем и целом» для ответа на следующее недоумение автора. К словам нашей программы о возвращении тех земель, которые отрезаны и служат орудием кабаления, автор ставит в скобках вопрос: «а которые не служат?». Мы ответим ему, что программа – не проект закона о возвращении отрезков. Мы определяем и объясняем общее значение отрезков, а не говорим об отдельных случаях. И неужели можно еще, после всей народнической литературы о положении пореформенного крестьянства, сомневаться в том, что отрезки, в общем и целом, служат орудием крепостнической кабалы? Неужели можно еще, спросим мы дальше, отрицать связь отрезков с отработочной системой, когда эта связь вытекает из самых основных понятий о пореформенной экономике России? Отработочная система есть соединение барщины с капитализмом, «старого режима» и «современного» хозяйства, системы эксплуатации посредством наделения землей и системы эксплуатации посредством отделения от земли. А какой же может быть более рельефный пример современной барщины, как не система хозяйства за отрезные земли (система, описанная, как таковая, как особая система, а не случайность, народнической литературой еще в то доброе старое время, когда о шаблонных и узких марксистах и слуху не было)? Неужели можно думать, что современное прикрепление крестьян к земле держится только отсутствием закона о свободе передвижения, а не существованием кроме того (и отчасти в основе того) кабального хозяйства за отрезные земли?
Не доказавши совершенно ничем основательности своего сомнения в наличности связи между отрезками и кабалой, автор рассуждает дальше следующим образом. Возвращение отрезков есть наделение мелкими участками земли, основанное не столько на потребностях крестьянского хозяйства, сколько на историческом «предании». Как и всякое наделение недостаточным количеством земли (о достаточном и речи быть не может), оно не уничтожит, а создаст кабалу, ибо вызовет аренду недостающих земель, аренду из нужды, аренду продовольственную, будет, следовательно, реакционной мерой.
Рассуждение опять-таки бьющее мимо цели, ибо наша программа вовсе не «обещает» в своей аграрной части устранение всякой нужды вообще (это обещает она лишь в своей общесоциалистической части), а только устранение (некоторых хотя бы) остатков крепостного права. Наша программа говорит именно не о наделении вообще всякими мелкими участками, а об устранении хоть одного из видов кабалы, уже сложившегося. Автор уклонился от того хода мысли, который положен в основу нашей программы, и произвольно, неправильно придал ей иное значение. В самом деле, посмотрите на его аргументацию. Он отодвигает (и в этом отношении он, конечно, прав) толкование отрезков в смысле одной лишь чересполосности и говорит: «если отрезки являются добавочным наделением землей, то нужно рассмотреть, достаточно ли отрезков для уничтожения кабальных отношений, так как с этой точки зрения кабальные отношения есть результат малоземелья». Решительно нигде не утверждает наша программа, что отрезков достаточно для уничтожения кабалы. Вся и всяческая кабала может быть уничтожена только социалистической революцией, мы же в аграрной программе стоим на почве буржуазных отношений и требуем некоторых мер «в целях устранения» (не говорим даже, чтобы это могло быть полным устранением) остатков крепостного права. Вся суть нашей аграрной программы состоит в том, что сельский пролетариат должен вместе с богатым крестьянством бороться за уничтожение остатков крепостничества, за отрезки. Кто внимательно всмотрится в это положение, тот поймет неправильность, неуместность и нелогичность возражений вроде того: почему только отрезков, раз этого недостаточно? Потому, что вместе с бэгатым крестьянством пролетариат не сможет и не должен идти дальше уничтожения крепостничества, дальше отрезков и т. п. Дальше этого пролетариат вообще и сельский в особенности пойдет один, не вместе с «крестьянством», не вместе с богатым мужиком, а против него. Не потому мы не идем дальше отрезков, что не хотим добра мужику или боимся запугать буржуазию, а потому, что не хотим, чтобы сельский пролетарий помогал богатому мужику свыше необходимого, свыше необходимого для пролетария. От крепостнической кабалы страдает и пролетарий и богатый мужик; против этой кабалы они могут и должны идти вместе, а против остальной кабалы пролетариат пойдет один. Поэтому выделение крепостнической кабалы от всякой другой является в нашей программе необходимым результатом строгого соблюдения классовых интересов пролетариата. Мы бы нарушили эти интересы, мы бы покинули классовую точку зрения пролетариата, если бы допустили в нашей программе, что «крестьянство» (т. е. богатеи плюс беднота) пойдет вместе дальше уничтожения остатков крепостного права; мы затормозили бы этим безусловно необходимый и самый важный с точки зрения социал-демократа процесс окончательного обособления сельского пролетариата от хозяйственного крестьянства, процесс роста пролетарского классового сознания в деревне. Когда люди старой веры, народники, и люди без всякой веры и без всяких убеждений, социалисты-революционеры, разводят руками по поводу нашей аграрной программы, то происходит это от того, что они (напр., г. Рудин и Ко) понятия не имеют о действительном экономическом строе нашей деревни и его эволюции, понятия не имеют о складывающихся и почти сложившихся буржуазных отношениях внутри общины, о силе буржуазного крестьянства. Со старыми народническими предрассудками или чаще с обрывками этих предрассудков подходят они к нашей аграрной программе и начинают критиковать отдельные пункты или их формулировку, не понимая даже, какую цель преследует наша аграрная программа, на какие общественно-экономические отношения она рассчитана. Когда им говорят, что в нашей аграрной программе речь идет не о борьбе с буржуазным строем, а о введении деревни в условия буржуазного строя, то они только протирают глаза, не сознавая (по свойственной им теоретической беззаботности), что их недоумение есть простой отзвук борьбы между народническим и марксистским миросозерцанием.



