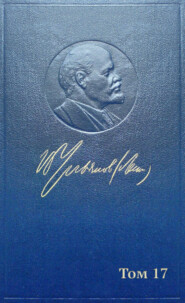 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Полное собрание сочинений. Том 17. Март 1908 ~ июнь 1909
Либеральная буржуазия вступила у нас на контрреволюционный путь. Отрицать это могут только храбрые Череванины и трусливо отрекающиеся от своего единомышленника и соратника редакторы «Голоса С.-Д.». Но если бы из этой контрреволюционности буржуазных либералов кто-нибудь сделал вывод, что их оппозиция и недовольство, их конфликты с черносотенными помещиками или вообще соревнование и борьба различных фракций буржуазии между собой не может иметь никакого значения в процессе нарастания нового подъема, то это было бы громадной ошибкой и настоящим меньшевизмом наизнанку. Опыт русской революции, как и опыт других стран, неопровержимо свидетельствует, что когда есть налицо объективные условия глубокого политического кризиса, то самые мелкие и наиболее, казалось бы, удаленные от настоящего очага революции конфликты могут иметь самое серьезное значение, как повод, как переполняющая чашу капля, как начало поворота в настроении и т. д. Напомним, что земская кампания и петиции либералов 1904 года были предтечей такой своеобразной и чисто пролетарской «петиции», как 9-ое января. Не против того спорили большевики по поводу земской кампании, что ее нужно использовать для пролетарских демонстраций, а против того, что эти демонстрации хотели (наши меньшевики) ограничить залами земских собраний, против того, что демонстрации перед земцами объявлялись высшим видом демонстраций, против того, что планы демонстраций составлялись под углом стремления не запугать либералов. Другой пример: студенческие движения. В стране, переживающей эпоху буржуазно-демократической революции, при условиях прогрессирующего накопления горючего материала, эти движения могут легко оказаться началом событий, идущих неизмеримо дальше, чем мелкий и частный конфликт из-за ведения дел в одной отрасли государственного управления. Разумеется, социал-демократия, ведя самостоятельную классовую политику пролетариата, никогда не будет приспособляться ни к студенческой борьбе, ни к новым земским съездам, ни к постановке вопроса поссорившимися фракциями буржуазии, никогда не будет придавать этой семейной ссоре самодовлеющего значения и т. п. Но именно партия социал-демократов есть партия руководящего во всей освободительной борьбе класса, она безусловно обязана использовать все и всяческие конфликты, разжигать их, расширять их значение, связывать с ними свою агитацию за революционные лозунги, нести весть об этих конфликтах в широкие массы, побуждать их к самостоятельным и открытым выступлениям с своими собственными требованиями и т. д. Во Франции после 1793 г. родилась и стала неуклонно расти контрреволюционная либеральная буржуазия, но, тем не менее, конфликты и борьба разных фракций ее в течение ста лет после того продолжали то в одной, то в другой форме служить поводами новых революций, в которых пролетариат неизменно играл роль главной движущей силы и которые он довел до завоевания республики.
Рассмотрим теперь вопрос об условиях наступательной борьбы этого руководящего и передового в нашей буржуазно-демократической революции класса, пролетариата. Московские товарищи, обсуждая этот вопрос, совершенно правильно подчеркнули при этом коренное значение промышленного кризиса. Они собрали чрезвычайно интересный материал относительно этого кризиса, учли значение борьбы Москвы с Лодзью, внесли ряд поправок в некоторые господствовавшие до сих пор представления. Остается только пожелать, чтобы материал этот не завял в комиссиях МК или МОК, а был обработан и вынесен в печать для обсуждения его всей партией. Мы, с своей стороны, ограничимся несколькими замечаниями о постановке вопроса. Спорным является, между прочим, направление, в котором действует кризис (по общему признанию, в нашей промышленности после очень краткого и небольшого оживления опять царит тяжелая депрессия, граничащая с кризисом). Одни говорят: по-прежнему невозможна экономически-наступательная борьба рабочих, следовательно, невозможен близкий революционный подъем. Другие говорят: невозможность экономической борьбы толкает к политической, и потому неизбежен близкий революционный подъем.
Мы думаем, что в основе рассуждения тех и других есть одна неправильность, состоящая в упрощении сложного вопроса. Несомненно, что детальное изучение промышленного кризиса имеет самое важное значение. Но несомненно также, что никакие данные о кризисе, даже идеально точные, не могут по сути дела решить вопрос за или против близкого революционного подъема, ибо подъем этот зависит еще от тысячи факторов, учесть которые наперед невозможно. Без общей почвы аграрного кризиса страны и депрессии в промышленности невозможны глубокие политические кризисы, это бесспорно. Но раз общая почва есть налицо, то отсюда еще нельзя сделать вывода, будет ли депрессия некоторое время задерживать массовую борьбу рабочих вообще или на известной стадии событий та же депрессия толкнет на политическую борьбу новые массы и свежие силы. Для решения такого вопроса может быть только один путь: внимательно следить за биением пульса всей политической жизни в стране и в особенности за состоянием движения и настроения широких пролетарских масс. В последнее время, напр., ряд сообщений партийных работников из различных концов России, из промышленных и земледельческих местностей, свидетельствует о несомненном оживлении настроения, о притоке новых сил, об усилении интереса к агитации и т. д. Сопоставляя с этим начало массовых студенческих волнений, с одной стороны, попытки воскресить земские съезды, с другой, мы можем констатировать известный поворот, нечто разрушающее полный застой последних полутора лет. Насколько силен этот поворот, служит ли он преддверием новой эпохи открытой борьбы и т. д., – это покажут факты. Все, что мы можем сделать сейчас, все, что мы должны сделать во всяком случае, это напрячь силы для укрепления нелегальной партийной организации и удесятерения агитации в массах пролетариата. Только агитация в состоянии показать в широком масштабе действительное настроение масс, только агитация создает тесное взаимодействие между партией и всем рабочим классом, только использование в целях политической агитации и каждой стачки, и каждого крупного события или вопроса рабочей жизни, всех конфликтов внутри правящих классов или той или иной фракции этих классов с самодержавием, и каждого выступления с.-д. в Думе, и каждого нового проявления контрреволюционной политики правительства и т. д., – только эта работа сомкнет снова ряды революционного пролетариата, даст безошибочный материал для суждения о быстроте назревания условий для новых и более решительных битв.
Резюмируем. Обзор итогов революции и условий переживаемого момента показывает ясно, что объективные задачи революции не решены. Сдвиг в сторону бонапартизма и аграрной политики самодержавия и его общей политики как в Думе, так и при помощи Думы, только обостряет и расширяет противоречие между черносотенным самодержавием и господством «дикого помещика», с одной стороны, и потребностями экономического и общественного развития всей страны, с другой. Полицейски-кулацкий поход на деревенскую массу обостряет борьбу внутри нее и делает эту борьбу политически сознательной, приближает, так сказать, борьбу с самодержавием к обыденным и насущным вопросам каждой деревни. Отстаивание революционно-демократических требований в аграрном вопросе (конфискация всех помещичьих земель) особенно необходимо в такой момент со стороны социал-демократии. Черносотенная октябристская Дума, показывая наглядно и на опыте, с какой «конституцией» может «примириться» самодержавие, и не решая ни единого вопроса даже в самых узких пределах обеспечения нужд экономического развития страны, превращает борьбу «за конституцию» в революционную борьбу против самодержавия; частные конфликты отдельных фракций буржуазии между собой и с правительством при данных условиях ведут именно к приближению такой борьбы. Обнищание деревни, депрессия в промышленности, общее сознание безвыходности данного политического положения и безнадежности пресловутого «мирно-конституционного» пути порождают новые и новые элементы революционного кризиса. Наша задача теперь не в том, чтобы искусственно сочинять какие-то новые лозунги (вроде лозунга: «долой Думу»! вместо: «долой самодержавие»!), а в укреплении нелегальной партийной организации (вопреки реакционному вою меньшевиков, хоронящих ее) и в развитии широкой революционно-социал-демократической агитации, которая сплотит партию с массами пролетариата и мобилизует эти массы.
«Пролетарий» № 38, (14) 1 ноября 1908 г.
Печатается по тексту газеты «Пролетарий»
Как Плеханов и Ко защищают ревизионизм
Примечание редакции «Голоса Социал-Демократа», т. е. Плеханова и Кo, к разобранному нами в № 37 «Пролетария» письму т. Маслова[54] вышло в свет отдельным листком как «Прибавление» к № 8–9 «Голоса С.-Д.».
Это «Примечание», размером около полустолбца «Пролетария», заслуживает внимания русских с.-д., ибо оно показывает, как из мелких фракционных интересов Плеханов и Ко дошли до защиты теоретического ревизионизма при помощи самых недостойных софизмов. Вот факты.
«Мы – самые решительные и совершенно непримиримые противники того пересмотра (ревизии) марксизма, который совершается под реакционным влиянием идеологов западноевропейской буржуазии и стремится подорвать основы философского, социологического и экономического учения Маркса и Энгельса». Так гласит первая фраза примечания. «Самые решительные и совершенно непримиримые противники» – не правда ли, трудно выразиться резче? трудно подыскать более велеречивую формулировку обещаний Плеханова и Ко.
Но… в том-то и гвоздь, что по отношению к Маслову (а Плеханов и Ко пишут примечание именно к статье Маслова, именно по вопросу о ревизионизме Маслова) является у наших «непримиримых» врагов ревизионизма замечательное «но».
«Но мы никогда не были сектантами марксизма, – заявляют Плеханов и К, – и мы хорошо понимаем, что можно разойтись с Марксом и Энгельсом по тому или другому вопросу, не только не изменяя их точке зрения и не отвергая их метода, но оставаясь вполне верным и той, и другому». Следует пример: Кунов, с.-д., в вопросе «о происхождении матриархата», «отчасти разошелся с Энгельсом»; но «только больному человеку придет в голову объявить его на этом основании ревизионистом».
«Сказанным определяется и наше отношение к взглядам тов. Маслова на учение Маркса о ренте. Мы не разделяем этого взгляда (прим. «Голоса С.-Д.»: «т. Мартынов в № 1 «Голоса» оговорил специально свое несогласие с поправкой тов. Маслова к учению об абсолютной ренте»), но мы не видим в нем ревизионизма…»
Перед читателем теперь налицо ход рассуждения Плеханова и К. Мы – «совершенно непримиримые противники ревизионизма», но – «мы не видим в нем (во взгляде Маслова на теорию абсолютной ренты) ревизионизма». Ревизионизм подрывает основы учения Маркса, Маслов же расходится с Марксом по частному вопросу, такова защита Плеханова и Ко, поясняемая окончательно примером Г. Кунова.
Мы спрашиваем читателя, хоть сколько-нибудь думающего и сколько-нибудь беспристрастного: неужели это не софизм? Теория абсолютной ренты Маркса объявляется «частным вопросом»! С расхождением относительно теории ренты сопоставляется тот факт, что Кунов «отчасти разошелся» с Энгельсом относительно происхождения матриархата!! Плеханов и Ко, очевидно, считают своих меньшевиков, которых они кормят такими объяснениями, за малых ребят. Только при полнейшем неуважении к себе самому и к своей публике можно позволять себе по важнейшим принципиальным вопросам такие приемы клоуна. Ведь сам же Плеханов (и Ко) начинает свое объяснение торжественной фразой, в которой ревизионизм назван подрывом основ учения Маркса и Энгельса. Что же? Отказываются ли от этого положения Плеханов и К по отношению к Маслову? Да или нет? Или Плеханов и К стал писать свое примечание, чтобы скрыть свои мысли?
Маслов заявил в ряде статей и в ряде изданий своего «Аграрного вопроса», что 1) теория абсолютной ренты Маркса неверна; 2) что объяснимо появление такой теории «черновым» характером III тома; 3) что «убывающее плодородие почвы» есть факт; 4) что, если бы была верна теория абсолютной ренты и был неверен «закон убывающего плодородия», то могли бы оказаться правы народники в России и ревизионисты во всем мире.
Именно эти четыре пункта были указаны против Маслова в той статье «Пролетария», с которой началась полемика по данному вопросу. Посмотрите же, как поступили Плеханов и Ко: во-первых, они скромненько ограничились вопросом о ренте, то есть вовсе умолчали об остальных вопросах. Это не защита ревизионизма? Не вздумает ли отрицать Плеханов и Ко, что пересмотр Марксова учения о нелепости и закона и «факта» убывающего плодородия «совершается под реакционным влиянием идеологов западноевропейской буржуазии»? Во-вторых, учение об абсолютной ренте приравнивается к частному вопросу, к расхождению («отчасти») насчет происхождения матриархата!
Это акробатство, господа! И этим акробатством вы прикрываете свою публичную защиту ревизионизма. Ибо прямо сказать, что признание абсолютной ренты и отрицание закона (или «факта») убывающего плодородия не есть «основа» экономического учения Маркса в области аграрного вопроса, вы не решаетесь. Вы защищаете «своего человечка», подделывая Маркса под Маслова, объявляя для Маслова «частным расхождением» именно основу учения Маркса. Вы подтверждаете этим сказанное в № 33 «Пролетария»[55] о меньшевистских теоретиках-Фамусовых, которые домочадцев своих награждают тем, что экономическую теорию Маркса соглашаются отнести в «частности», сопоставить с вопросом о происхождении матриархата.
Плеханов и К – «непримиримые враги ревизионизма», – но если вы меньшевик, то не бойтесь этих страшных слов! Идите к «редакции «Голоса»» и знайте, что для меньшевиков непримиримость очень примирима, до того примирима, что «подрыв теории» она согласится сравнить с «расхождением о происхождении матриархата». Индульгенция продается недорого, распродажа объявлена, пожалуйте, почтеннейшая публика!
Но пойдем дальше. Мы не разделяем взгляда Маслова о ренте, – заявляют Плеханов и К. Мартынов оговаривал уже это, – пишут они. «То лицо», которое редакция «Пролетария» назвала «ангелом-хранителем Маслова» (т. е. Плеханов), «не раз (слушайте!) печатно спорило (курсив «Голоса») с тов. Масловым по предметам, имеющим тесное отношение к нашей аграрной программе».
Так, буквально так напечатано в «примечании» Плеханова и Ко!
Учитесь писать опровержения у своей редакции, товарищи меньшевики. Вам дают классический в своем роде образчик. Речь идет о ревизионизме, спор загорелся из-за того, теоретическая ли непримиримость или только мелкая фракционная злоба заставили Плеханова назвать ряд его оппонентов господами в органе партии, а в «опровержении» говорится: Плеханов «не раз печатно спорил» с Масловым не о ренте и не об отступлениях Маслова от теории Маркса.
Можно ли подыскать парламентское выражение для характеристики таких приемов? Ни разу Плеханов, любящий теоретические споры и умеющий кое-когда превращать эти споры в кампании, ни разу он не спорил с Масловым о том, что составляет его ревизионизм, т. о. об отрицании абсолютной ренты, о признании этой «теории черновым наброском», о защите «факта» убывающего плодородия, о том, могли ли бы народники и ревизионисты оказаться правы, если бы Маслов не опроверг Маркса. Ни разу не спорил об этом Плеханов, а спорил совсем о другом, спорил именно о частностях, которые спрятаны теперь Тартюфами{120} меньшевизма под изысканно-темное, нарочито сбивающее читателя с толку, дипломатически запутанное выражение: «предметы, имеющие тесное отношение к нашей аграрной программе»!!
Великолепно, не правда ли? Как не поздравить Плеханова и Ко с таким началом защиты ревизионизма. Как не вспомнить тут политиканов вроде Клемансо. Клемансо – «непримиримый» враг реакции, он «не раз спорил» с ней, но теперь реакция делает, а Клемансо оговаривается и… прислужничает. Плеханов – «непримиримый» враг ревизионизма. Плеханов «не раз спорил» с Масловым (о чем угодно, кроме масловского ревизионизма). И теперь Маслов пишет против Маркса, Маслов повторяет свои доводы против теории Маркса на страницах «Голоса», а Плеханов и К только оговариваются!
Покупайте же индульгенцию, господа литераторы, записывайтесь в меньшевики. Вам дадут завтра опровергать и теорию стоимости Маркса на страницах «Голоса», – с оговоркой в примечании, что редакция «не согласна»…
«Не попытается ли «Пролетарий», – спрашивают нас в том же примечании Плеханов и К, – «обосновать свою мысль» о связи рассуждений Маслова об абсолютной ренте и программой, отвергающей национализацию?» С удовольствием, любезнейшие «непримиримые». Вот вам для начала короткое первое обоснование:
«Можно ли при непонимании теории абсолютной ренты Маркса понять значение частной собственности на землю, как помехи развитию производительных сил капиталистического общества?»
Посоветуйтесь-ка с Масловым, о «непримиримые» Плеханов и Ко, и ответьте нам на этот вопрос, дающий вам желанное обоснование!
«Пролетарий» № 39, (26) 13 ноября 1908 г.
Печатается по тексту газеты «Пролетарий»
По поводу двух писем
Мы печатаем в настоящем номере «Пролетария», во-первых, письмо рабочего-отзовиста{121}, помещенное в № 5 «Рабочего Знамени» с примечанием, что редакция не разделяет таких взглядов и рассматривает письмо как дискуссионную статью; во-вторых, письмо петербургского рабочего, Михаила Томского, только что присланное в нашу газету. Оба эти письма мы приводим полностью. Мы хорошо знаем, что могут найтись злостные критики, которые способны вырвать отдельные места или фразы из того или другого письма и перетолковать их вкривь и вкось, сделать из них выводы, далекие от намерений обоих авторов, писавших наскоро, при самых неблагоприятных конспиративных условиях. Но на таких критиков не стоит обращать внимания. А кто серьезно интересуется состоянием рабочего движения и положением социал-демократии в России в настоящее время, тот, наверное, согласится с нами, что оба письма замечательно характерны для обрисовки двух течений среди наших сознательных рабочих. Эти два течения проявляют себя на каждом шагу в жизни всех петербургских и московских с.-д. организаций. И так как третье течение, течение меньшевизма, прямо и открыто или тайком и с ужимками хоронящее партию, почти совсем не представлено внутри местных организаций, то мы можем сказать, что столкновение двух указанных тенденций есть злоба дня нашей партии. Вот почему на «двух письмах» необходимо остановиться со всей подробностью.
Оба автора признают, что наша партия переживает не только организационный, но и идейно-политический кризис. Это факт, который нелепо было бы утаивать. Надо дать себе ясный отчет в его причинах и в средствах борьбы с ним.
Начнем с петербуржца. Из всего его письма ясно видно, что причины кризиса, по его мнению, двоякие. С одной стороны, недостаток с.-д. руководителей из самих рабочих вызвал то, что почти повальное бегство интеллигенции из партии означало во многих местах распадение организации, неуменье собрать и сплотить ряды, поредевшие от тяжелых репрессий, от апатии и усталости масс. С другой стороны, пропаганда и агитация велись у нас, по мнению автора, с громадным преувеличением «текущего момента», т. е. сосредоточивались на вопросах злободневной революционной тактики, а не на проповеди социализма, не на углублении социал-демократического сознания пролетариата. «Рабочие становились революционерами, демократами, но только не социалистами» и, при упадке волны общедемократического, т. е. буржуазно-демократического, движения, они в очень и очень большом количестве покинули ряды с.-д. партии. Такой взгляд петербуржец связывает с резкой критикой «беспочвенного» «изобретения» лозунгов и с требованием более серьезной пропагандистской работы.
Мы полагаем, что, споря против одной крайности, автор впадает иногда в другую, но в общем и целом он безусловно стоит на совершенно правильной точке зрения. Нельзя сказать, что было «погрешностью» «делать целые кампании» из вопросов о текущем моменте. Это преувеличено. Это значит забывать с точки зрения данных условий вчерашние условия, и автор, в сущности, поправляется сам, признавая, что «момент непосредственных выступлений пролетариата есть, конечно, вопрос исключительный». Возьмем два такие выступления, по возможности более разнородные и отделенные наибольшим промежутком времени: бойкот булыгинской Думы осенью 1905 года и выборы во II Думу в начале 1907 года. Могла ли сколько-нибудь живая и жизненная пролетарская партия не сосредоточить в такое время главного внимания и главной агитации на лозунгах дня? Могла ли с.-д. партия, которая вела за собой в оба эти момента массы пролетариата, не сосредоточить внутренней борьбы на лозунгах, определяющих немедленное поведение масс? Идти в булыгинскую Думу или срывать ее? выбирать ли во II Думу в блоке с кадетами или против кадетов? Достаточно ясно поставить вопрос и вспомнить условия этого недавнего прошлого, чтобы не сомневаться в ответе. Ожесточенная борьба за этот или иной лозунг вызывалась тогда не «погрешностью» партии, нет, она вызывалась объективной необходимостью быстрого и единого решения, при отсутствии заранее спевшейся партии, при наличности двух тактик, двух идейных течений в партии, мелкобуржуазно-оппортунистического и пролетарски-революционного.
И не следует равным образом изображать дело так, будто для пропаганды социализма, для распространения в массах знакомства с марксизмом недостаточно делалось в то время. Это была бы неправда. Именно в этот период, с 1905 по 1907 год, в России распространена такая масса серьезной, теоретической с.-д. литературы, – главным образом переводной, – которая еще принесет плоды. Не будем маловерами, не будем своего личного нетерпения навязывать массам. Такие количества теоретической литературы, в такой короткий срок брошенные в девственные, почти незатронутые социалистической книжкой массы, не перевариваются сразу. Социал-демократическая книжка не пропала. Она посеяна. Она растет. И она даст плоды – может быть, не завтра, не послезавтра, а несколько позже, мы не в силах изменить объективных условий нарастания нового кризиса, – но она даст плоды.
Тем не менее в основной мысли автора есть глубокая правда. Эта правда состоит в том, что в буржуазно-демократической революции неизбежно известное сплетение пролетарски-социалистических и мелкобуржуазно-демократических (и оппортунистически-демократических и революционно-демократических) элементов и тенденций. Не могла произойти первая кампания буржуазной революции в капиталистически-развивающейся «крестьянской» стране без того, чтобы объективная слитость известных пролетарских слоев с известными мелкобуржуазными слоями дала себя знать. И мы переживаем теперь процесс необходимой разборки, размежевки, нового выделения действительных пролетарски-социалистических элементов, очистки их от «приставших к движению» (Mitläufer, говорится это по-немецки) только ради «яркого» лозунга, с одной стороны, или ради общей с кадетами борьбы за «полновластную Думу», с другой.
В различной степени эта разборка происходит в обеих фракциях с.-д. Ведь это же факт, что и у меньшевиков и у большевиков поредели ряды! Не будем бояться признать его. Не подлежит, конечно, ни малейшему сомнению, что такого развала и такой деморализации, какая наблюдается в рядах правого крыла партии, левое ее крыло избегло. И не случайно: принципиальная невыдержанность не могла не способствовать развалу. События окончательно покажут на деле, где и как осталось больше организационной сплоченности, пролетарской преданности, марксистской выдержанности. Такие споры решает жизнь, а не слова, не обещания, не зароки. Факт разброда и шатания налицо, и этот факт требует объяснения. И объяснения не может быть иного, как необходимость новой разборки.
Иллюстрируем свою мысль маленькими примерами: составом «тюремного населения» (как говорят стряпчие), т. е. составом публики, находящейся в тюрьме, ссылке, каторге и эмиграции по политическим делам. Ведь этот состав правильно отражает действительность вчерашнего дня. А разве может быть сомнение в том, что состав «политиков», населяющих места столь и не столь отдаленные, отличается теперь громадной пестротой политических взглядов и настроений, нерасчлененностью и неразберихой? Революция подняла к политической жизни такие глубокие слои народа, она вынесла сплошь да рядом на поверхность столько случайных людей, столько «рыцарей на час», столько новичков, что совершенно неизбежно отсутствие у многих и многих из них всякого цельного миросозерцания. Его нельзя выработать в несколько месяцев горячки, – а средняя «продолжительность жизни» большинства революционных деятелей первого периода нашей революции, наверное, не превышает нескольких месяцев. Поэтому новая разборка среди всколыхнутых революцией новых слоев, новых групп, новых революционеров совершенно неизбежна. И эта разборка происходит. Например, похороны с.-д. партии, производимые целым рядом меньшевиков, означают в сущности, что эти почтенные господа хоронят себя как социал-демократов. Нам ни в каком случае не приходится бояться этой разборки. Мы должны приветствовать ее, мы должны помочь ей. Пусть хныкают мягкотелые люди, которые здесь и там будут кричать: опять борьба! опять внутренние трения! опять полемика! Мы отвечаем: без новой и новой борьбы никогда и нигде не складывалась действительно пролетарская, революционная социал-демократия. А у нас в России она складывается даже в теперешний тяжелый момент, и она сложится. За это ручается и все капиталистическое развитие России, и влияние международного социализма на нас, и революционная тенденция первой кампании 1905–1907 годов.



