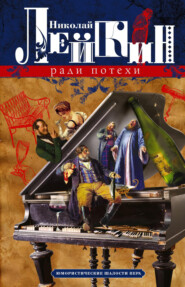скачать книгу бесплатно
– На это есть контора, там я сделал расчет и велел выдать деньги.
– В том-то и дело, что они вашим расчетом недовольны и пришли поговорить с вами самолично.
– Гони вон!
– Нейдут-с и даже бунтуют, стращают к мировому идти с жалобой.
Степан Тарасьевич принял олимпийский вид и вышел к крючникам.
– Вы чего тут бунтуетесь?! – крикнул он им.
– Степан Тарасьевич, отец родной, рассчитай ты нас путем, не оставляй в обиде!
– Вот вам на всех, и больше не дам ни копейки! Вон из моего дома!
Он полез в бумажник, вынул оттуда несколько мелких бумажек, в том числе и меня, и бросил мужикам.
Мужики подняли деньги и пошли в трактир делиться. Здесь, в трактире, я досталась крючнику Пантелею, рослому и мощному Голиафу, для которого поднять на спину куль овса, развернуть подкову или даже перекреститься двухпудовой гирей ничего не значило. Пантелей ехал на побывку в деревню и отправился на рынок закупать дары для жены и родственников, а для того, чтобы купцы не надули его товаром, пригласил с собой в компанию двух товарищей.
Мы отправились в рынок. Я лежала в кожаной мошне Пантелея и была спрятана за пазухой рубахи. Помню одно, что по соседству со мной лежала пятирублевка и то и дело хвасталась, что она гостила в бумажнике у адвоката Павла Потехина.
Началась покупка ситцу. Купец раскидывал перед крючниками и лютческие ситцы, и ермаковские, и гюбнеровские, и битепажевские. Мужики просили резать образчики от ситцу и жевали их, пробуя, не слиняет ли с них краска.
– Нам бы травками али вавилоном манер какой, а то дорожкой али февероком, – говорил Пантелей и переминался с ноги на ногу.
– Фейерверком! – передразнил его купец. – Сами не знаете, чего хотите! Вон берите манер! Уж ежели это не манер, так зарылись вы, ребята! Да любую бабу в этом ситце бык забодает, и корова жевать начнет.
Но и эти доводы не привели ни к чему. Мужики по-прежнему не решались, что им взять; хозяин прибег к последнему торговому фортелю и принялся ругать мужиков.
– Черти вы этакие сиволапые! Видно, на грош пятаков искать пришли! С собой ли деньги-то? Жуют, жуют, а толку никакого, только товар перерыли. Торгуйтесь по-божески, да и покупайте, а то вот как хвачу куском-то!
– Ну что ты! Ты не очень… Мы купим, – заговорили мужики и действительно купили.
Брань купца подействовала, до того подействовала, что он даже успел ввернуть им самый линючий ситец, и в обмен за этот ситец я попала в выручку купца.
Купец был мрачен вследствие плохой торговли и, как я узнала впоследствии, собирался банкрутиться, предлагая кредиторам по пятиалтынному за рубль. Лавка, для пущей безопасности и неприкосновенности, давно уже была переведена на тещу, а домашняя движимость – на жену.
– Коли к Троице успеем очистить свою совесть, то самое любезное дело будет, – говорил хозяин, обращаясь к своему старшему приказчику. – Барыш хороший будет, так тебе пятак с рубля!
– Это точно, Трифон Силиверстыч, тогда и к угодникам на слободе съездить можете. Начинайте-ко с Богом с завтрашнего дня: возьмите крестик, да и ступайте по кредиторам.
Сказано – сделано. Всю ночь купец вздыхал, как локомотив, и ворочался с боку на бок. Я это явственно слышала у него в бумажнике, который помещался под подушкой. Наутро он надел старенький сюртучишко, потер швы его мелом, дабы он казался еще «жалостливее», и отправился по кредиторам. По дороге он зашел в часовню и поставил рублевую свечу.
Я очутилась в свечной выручке, среди трешников, грошей и серебряной мелочи. Тут был и пятак сирой вдовицы, гривенник ростовщика и семитка рабочего, пришедшего в Питер на барке.
О, гордость, о, мать пороков! Каюсь: как скромна и приниженна была я в шкафу богача Овсянникова, так, наоборот, возгордилась я здесь перед пропахшими всеми возможными запахами медяками. Я надменно подымала голову и презрительно скашивала на них свои нумера. Медяки и обтертая серебряная мелочь лежали в куче и вздыхали. Но мне недолго пришлось поважничать. Скоро нас принялись считать, отделяя серебро от меди, как овец от козлищ, и кладя их в отдельные мешки. Меня, в сообществе других мелких бумажек, завернули в поминанье и отдали фабриканту и торговцу восковых свечей купцу Мачихину. Вес мой значительно увеличился, ибо я в нескольких местах была закапана воском.
С Мачихиным я несколько раз играла в стукалку, причем он оторвал у меня для счастья (конечно, не для моего) и последний четвертый угол, вследствие чего я сделалась совсем карнаухая. С ним я была в трактире, в Александринском театре, и через день я была отдана дворнику за воду.
Дворник расправил меня, соскоблил восковые пятна, причем совсем стер печатные слова «серебряною или золотою монетою», и вместе с несколькими другими бумажками зашил в тулью своей шапки.
В шапке я лежала довольно долго и ходила с дворником и в трактир, и в кабак; со мной неразлучно возил он и пьяных в участок, носил дрова и воду, получал с жильцов деньги за квартиры и все сбирался ехать в деревню к жене на побывку. Раз, в бытность свою в трактире, он начал торговать у маркера золотые часы, которые маркер выиграл у какого-то гостя. Маркер просил за них тридцать целковых, дворник давал пятнадцать.
– Ах ты, выжига! За этакие часы да пятнадцать целковых! Сиволдай! Есть ли еще пятнадцать-то целковых! Поди и с полушубком-то вместе всего имущества на синенькую не наберется.
Дворник был выпивши.
– Что? – заревел он. – А хочешь парей на полдюжины баварского и на две селянки, что я вот ежели эту шапку распотрошу, то из нее может двадцать пять синеньких посыплется? Да мы о Пасхе одних праздничных по красненькой на брата сбирали. Ах ты, шаропех эдакой!
– Идет на полдюжины! Ладно! Потроши шапку! – горячился маркер.
Другие дворники начали останавливать маркера.
– Полно, спорь до слез, а об заклад не бейся! – говорили они. – Оставь, проспоришь, действительно у него в шапке много денег зашито!
Маркер умолк. Сидевшие в биллиардной две какие-то личности многозначительно переглянулись между собой.
Прошло несколько дней. Я спокойно продолжала лежать в шапке дворника и пролежала бы там долго, узрев свет только в деревне, ежели бы у дворников не случился храмовой праздник по деревне и они не начали «справлять престол», купив предварительно полведра водки и несколько фунтов ветчины. Хозяин мой в этот день был пьян и в то же время – дежурный по караулу. Как ни трудно было ему, но в 11 часов вечера он надел тулуп, валенки и лег на скамейку караулить ворота. Через минуту он захрапел крепким и непробудным сном.
Ворота он, правда, укараулил, но шапку с зашитыми в ней бумажками, в том числе и со мной, проспал. Ее без особенного труда стащили с него те темные личности, которые присутствовали в трактире при его споре с маркером.
Сорвав шапку, мазурики забежали на двор какого-то вновь строющегося дома, распотрошили ее, вынули оттуда деньги и наскоро начали делить их между собою. Синенькие и зелененькие бумажки были поделены поровну, но я, рублевая, осталась одна.
– Это мне следует; я первый с дворника шапку стащил, – говорил красно-сизый нос.
– Нет, мне, потому что я нес ее всю дорогу, – возражал подбитый глаз.
– Мне!
– Нет, мне!
– Ах ты, голь кабацкая!
– Ах ты, подзаборный житель!
Мазурики разодрались. Один схватил меня за одну сторону, другой – за другую, и каждый рвал к себе.
Вдруг в отдалении раздался свисток городового, и они разбежались.
Я осталась в руках подбитого глаза, но, увы, я уже не имела никакой ценности. Левый нумер и душа с подписями управляющего и кассира были вырваны. Они были или потеряны, или находились у красно-сизого носа. Подбитый глаз всячески старался меня сбыть в кабаке, в трактире, бабам, торгующим на Сенной вареным картофелем и печенкой, но меня никто не брал. Он вставил меня в рамку из газетной бумаги, но и это не помогло: тогда он взял меня и опустил на улице в кружку нищенского комитета.
Оттуда я попала в государственный банк, и вот теперь осуждена на публичное всесожжение. Страшно! Страшно!
IV. Похождения шампанской бутылки
Увы! Теперь я пуста и бессодержательна, как театральные отметки рецензента, но когда-то была полна искрометным шампанским и имела на груди своей ярлык известной фирмы «Редерера»! Теперь я в виде черепков валяюсь в яме в сообществе апельсинных корок, яичной скорлупы, стоптанного башмака, отрепанной метлы и прочей дряни, но когда-то стояла на столе в серебряной вазе, наполненной льдом. Голова моя была высмолена по последней моде, и я гордо посматривала на бутылки с ярлыками хереса, портвейна и лафита. О, какой поучительный урок для гордости! Я убита, уничтожена и как милости жду того момента, когда мальчишка-тряпичник поднимет мои черепки, опустит их в свой грязный мешок и отнесет на стеклянный завод для возрождения меня к новой жизни.
Как я родилась на свет, я не помню, да вряд ли кто-либо и может сам помнить подробности дня своего рождения. Детство мое тоже изгладилось у меня из памяти. Когда я начала себя понимать, я лежала уже в погребе одного известного французского ресторана, завернутая в синюю бумагу и упакованная в ящик, наполненный соломой. В один прекрасный вечер меня вынули из ящика, сняли проволоку с пробки и поставили в серебряную вазу. Я очутилась на залитом вином столе, среди недопитых бутылок, зажженных канделябров и тарелок с объедками. За столом сидели два полупьяных статских, желтогривая полудевица и пожилой военный. Один из статских, очень юный фертик, у которого на лбу невидимыми буквами было написано: «Купеческий саврас», развалился на диване и вдруг захохотал во все горло:
– Нет, господа, вспомнить не могу без смеха об этом выверте, да и шабаш! Вдруг за буйство в публичном месте он приговаривает меня к двадцати пяти рублям штрафу, а в случае несостоятельности к содержанию при полиции на семь дней! Ха-ха-ха! Вот чудак-то! Я думал, что он меня прямо на неделю в тюрьму! Всем святым свечи ставил, молебны служил о смягчении судейского сердца, и вдруг двадцать пять рублей штрафу! Что это для меня?.. Тьфу, и больше ничего. Да после этого я каждую неделю буду этим буйством забавляться! Все мировые участки обойду. Michel, переведи все это Сюзете по-французски, – обратился он к военному.
Тот перевел.
– Animal! Imbecile![2 - Животное! Болван! (фр.)] – скорчила гримасу француженка.
– Что она говорит? – спросил саврас.
– Хвалит тебя. Говорит, что так и следует.
– Ну, господа, ради такого счастливого случая, что я вышел сух из воды и вместо тюрьмы сижу в ресторане, засобачимте еще по бокальчику за мое здоровье, да едемте в «Самарканд» цыган слушать!
– Ну тебя! Не могу! И так уж восемь бутылок выпили. В горло нейдет!
– Pleine![3 - Полна! (фр.)] – проговорила француженка и провела рукой по горлу.
– Ну, так я на голову вылью! Хочу, чтоб все пили!
– Эй, Петя! Не дури! – крикнул военный.
Начался крупный разговор. Дабы замять его, француженка запела:
Mon реге est a Paris,
Ma mere est a Versaille![4 - Мой отец в Париже,Моя мать в Версале! (фр.)]
Саврас угомонился.
– Коли так, – проговорил он, – я эту самую бутылку шампанского троечным лошадям стравлю! Эй, Каюм! Счет и лоханку! Едемте!
Услужливый татарин принес и то, и другое. Саврас расплатился за все, вынул меня из вазы, откупорил и велел вместе с лоханкой отнести на подъезд. На подъезде он вылил из меня шампанское в лохань и поднес троечным лошадям. Но те не пили и мотали головой. Саврас воспылал гневом.
– А коли так, так вот же вам! – проговорил он и вылил шампанское лошадям на головы.
На сцену эту смотрели стоявшие у подъезда извозчики и хохотали. Проходивший мимо старик в еноте остановился и, узнав, в чем дело, помотал головой и сказал:
– Э-эх! Видно, некому и постегать-то тебя, окаянного!
Я была отнесена в ресторан и в числе прочих бутылок поставлена в кладовую. О, как мне было горько и обидно, что содержимое мое было так безобразно и бесполезно потрачено. Я стояла угрюмая, надутая и чуть не плакала. Бутылки из-под портеру и мадеры приставали ко мне с вопросами, но я упорно молчала. Все находящиеся в кладовой бутылки вознегодовали на это и называли меня дрянью, гордячкой.
– Чего важничаешь-то! – крикнула из угла толстая бутылка из-под московского ланинского шампанского. – Туда же нос подымает, будто ее вельможи выпили. Не скроешься, матушка, видела я с окошка, как кровь-то твою на голову извозчичьим лошадям выливали. Нечего сказать, есть чем похвастать! А ты вот доживи-ка, до чего я сегодня дожила, да потом и фордыбачь. Меня сегодня татары один раз подали за настоящую Клико, и я была пречудесным образом выпита «саврасом» и его прихлебателями, а другой раз так пустую для счету поставили, а деньги взяли как за полную.
– Браво! Браво! – зазвенели разнородные бутылки, а черная приземистая бутылка из-под портеру улыбнулась во всю ширину своего ярлыка с подписью «А. Le Coq» и сказала:
– Откровенно сказать, ведь и я была наполнена портером-то не в Англии, а на пивоваренном заводе А. Крона в Петербурге, но, невзирая на это, два гусара преспокойно выпили мое содержимое за английский портер, да еще похваливали.
Наутро я была обменяна в погребе братьев Елисеевых на вино; меня прополоскали, оскоблили с горла смолу и налили коньяком. С налепленным ярлыком и с запечатанной пробкой я очутилась на полке роскошного магазина.
Много входило в магазин покупателей, но я как-то не обращала на них внимания, до тех пор, пока не вошел статный Марс. Гремя шпорами, он ходил по магазину и говорил:
– Во-первых, четыре десятка устриц; во-вторых, фунт честеру; в-третьих, две бутылки белоголовки Гейцикера, четыре полубутылки портеру, а самое главное – бутылку коньяку в два рубля. Да поскорей уложите все это и отнесите в коляску.
– Слушаем-с. Будьте покойны! Сейчас! – отвечал приказчик, засуетился и первым делом схватил меня.
Через час я была в квартире Марса, а вечером стояла на столе рядом с устрицами, шампанским, апельсинами, ананасом и огромным куском холодного ростбифа. За столом помещались Марс, двое его сподвижников, статский с лимонно-желтым лицом, с вставною челюстью и с pincenez[5 - Пенсне (англ.).] на носу и плотный иерусалимский дворянин с черными плотоядными глазами и массивной золотой цепью на брюхе, усеянной кучей брелоков. Разговор шел о лошадях, о балете, о новоприезжей француженке, о новой шансонетке Жюдик. Во время разговора иерусалимского дворянина Марс называл почтенным Самуилом Соломоновичем. Почтенный Самуил Соломонович скалил зубы, что означало, должно быть, улыбку.
– Да, почтенный Самуил Соломонович, ежели я не держу своих лошадей, а беру их у извозчика, так это именно от кучеров. Вы не поверите, что за мерзавец стал нынче этот народ. За грош тебя продаст и всякую лошадь испортит! А я люблю лошадей, и очень люблю! Прошлый год я потерял на лошадях три тысячи, плюнул и решил больше не держать. Конечно, я имею средства, но ведь тут никаких денег не хватит!
– Да, русский мужик вор, каналья! – отвечал иерусалимский дворянин и оскалил зубы.
– Это вот вам, Самуил Соломонович, так можно держать, – поддержал разговор лимонно-желтый статский, – потому вы, ежели и тридцать тысяч в год на лошадях потеряете, то и это вам нипочем!
– Ох! – вздохнул иерусалимский дворянин и опять оскалил зубы.
– Да, Самуил Соломонович, к вашим деньгам мы вот хотим и новоприезжую француженку подсватать. Глаза – восторг! А талия, ох, боже мой! Хотите я вас с ней познакомлю? Видите, я не ревнив. Впрочем, pardon[6 - Простите (фр.).], потому только, что со дня на день жду денег от моего управляющего. Хотите? Хотите? О, она сейчас вскружит вам голову.
Вскоре ужин кончился. Гости-офицеры простились и поехали в маскарад. Иерусалимский дворянин взялся было за шляпу, но хозяин его не пустил.
– Ни за что, ни за что не пущу вас! Мы еще жженку варить будем. Знаете, по-холостому. Вы, я думаю, уже отвыкли от этого, но все равно, вспомните прежние юные годы.
Для жженки остался и желто-лимонный статский.
Вскоре я была вылита в кастрюлю с сахаром, апельсинами и ананасом, и запылал синий огонек.
– Да, все нынче хорошо, и я вполне доволен сегодняшним днем, в который вы меня осчастливили своим посещением, но ужасно злюсь на своего управляющего: не высылает мне денег, да и только! – говорил Марс за жженкой и слегка похлопывал иерусалимского дворянина по коленке. – А что, почтеннейший Самуил Соломоныч, не можете ли вы мне дать под вексель три тысячи рублей, хоть так – на два, на три месяца. Разумеется, возьмите за это хорошие проценты. Я вполне понимаю, что торговый человек даже из принципа должен во всем соблюдать свою выгоду.
Выговорив эту тираду, Марс глубоко вздохнул и откинулся на спинку кресла. Иерусалимский дворянин как-то съежился и наклонил голову.
– Ох, с деньгами совсем беда! Все отданы, все! – прошамкал он и на сей раз уже не оскалил зубов.
– Но я вам могу представить верного поручителя, – продолжал Марс, указывая на лимонного статского. – У Вольдемара четыре тысячи десятин земли в Архангельской губернии.
– Я сам бы занял теперь охотно такую сумму, – сказал иерусалимский дворянин и начал прощаться.
Хозяин проводил его очень холодно.
– Вот подлец-то! – воскликнул он по его уходе. – Пил, ел, слушал льстивые слова, а как дошло дело до денег, и отказал. Делать нечего, сорвалось! Пропало даром угощение.
– Послушай, нет ли у тебя трех рублей? Дай мне до послезавтра, – проговорил статский.
– Откуда мне взять их, mon cher?[7 - Мой дорогой (фр.).] Все, что было, все проухал в утробу этого жида. Ведь думал, денег даст.
– Ну, дай хоть двугривенный на извозчика.
– Возьми, только это последний, и я сам останусь без гроша.
Статский взял и ушел, а хозяин допил с горя всю жженку и завалился спать.
Всю ночь храпел он так неистово, что мы, бутылки, даже дребезжали на столе, а наутро, лишь только проснулся, сейчас же крикнул:
– Эй, Ферапонт! Папиросу и огня!