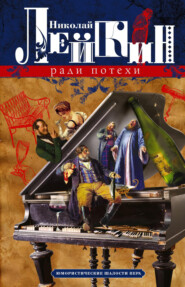скачать книгу бесплатно
– До двенадцати даже.
– Ну, коли так, так успею! Ведь я, Петя, нынче совсем домосед. Никуда из дома!.. Жена у меня – ангел, и я ценю это. В трактиры я ни-ни!.. И все для дома! Все для дома! Сегодня исключение, потому что очень рад, что с тобой увиделся.
Бутылка хересу была кончена. Часы показывали семь, но это уже не пугало моего хозяина.
– Два стакана пуншу, да покрепче! – крикнул Петр Иваныч.
– Что пунш! Выпьем шампанеи бутылочку. Уж кутить так кутить! – отвечал мой хозяин. – Бутылку шампанского! За здоровье твоего младенца хочу пить!
– Не позволяю! За своего младенца я сам поставлю, а это за твою жену!
– Что? Не позволяешь? Где бутылки, коли так! Я те покажу, как наши гуляют!
В девять часов приятели, еле держась на ногах, выходили из трактира.
– Ты куда теперь?
– Прямо в колбасную! Чаю, сахару… колбаски… Да!.. Барабан еще! Ну, прощай!
Хозяин мой нанял извозчика, но ни в колбасную, ни домой не попал, а застрял где-то в знакомой портерной, откуда мальчишка-портерщик и привел его домой.
Жена сама ему отворила двери, да так и всплеснула руками.
– Не стыдно это тебе? – воскликнула она. – В эдакий день и в таком виде! Люди в этот день пищи не вкушают, а он пьян! Купил, что я тебе приказывала?
– Купил, – отвечал чиновник и, цепляясь за стену, побрел в комнаты.
– Где же эти покупки-то у тебя? Где? – приставала она к нему.
– А вот!
Он вынул меня из кармана и положил на стол.
– Что это? Штопор? Зачем? Где же чай, сахар, закуски? Неужто на пятнадцать-то рублей, что я тебе дала, ты только один штопор купил? Где же деньги-то? Где они?
– Деньги? Деньги – фю!
Вместо ответа, муж свистнул, повалился на диван и вскоре захрапел.
Жена начала шарить у него по карманам, но, кроме несколько мелочи, ничего не нашла.
Бедная женщина даже заплакала и, увидав меня лежащим на столе, схватила и кинула на окно, где я и пролежал до утра.
Настал день Рождества. Хозяин мой ходил по комнате мрачный, отпивался огуречным рассолом и упорно молчал. Жена тоже не говорила ни слова. Вдруг у входных дверей постучались.
– Марфа! – крикнула она кухарке. – Коли дворники или сторожа из департамента с праздником поздравлять, так скажи, что нас дома нет! Делать нечего, надо как-нибудь наверстывать! Шутка! Пятнадцать рублей вчера не пито не едено потеряли! Господи! И хоть бы что путное на эти деньги купил, а то вдруг – штопор!
– Нет ли у вас штопора? – раздалось в кухне. – Одолжите, пожалуйста. Свой куда-то завалился; ищем-ищем, не можем найти, а барин вина требует.
Это был голос соседского лакея.
– Нате, возьмите! Можете даже на все праздники у себя оставить! – крикнула чиновница, схватила меня с окошка и с каким-то злорадством сунула лакею.
Лакей потащил меня к себе, откупорил бутылку красного вина и вместе с бутылкой внес и меня на подносе в столовую, где и поставил на стол. На столе стояли окорок ветчины, фаршированная пулярка и разные соленья. За столом сидели два господина. Один седой, с бакенбардами котлетой, другой черный, с бородой.
– Ну, что нового у вас, в Москве? – спрашивал бакенбардист, наливая два стакана вина.
– Ох, и не спрашивайте! Совсем плохо! – отвечал бородач. – Удар за ударом! Какой-то немец сумел дисконтировать в наших частных банках на полмиллиона фальшивых векселей и удрал за границу, предварительно угостив лукулловским завтраком банковых директоров. И все это случилось перед праздниками. Вот какой подарочек на елку получила наша Москва!
В это время в комнату вбежал лакей, схватил меня со стола и потащил в кухню. Там стояла миловидная горничная в туго накрахмаленном платье.
– Штопорчик вам? Пожалуйте! Только не затеряйте, пожалуйста, – проговорил лакей, – потому это не наш, а чиновничий. Эх, следовало бы с вас, Дарья Степановна, два поцелуйчика сегодня за этот штопор, ну да завтра сочтемся.
– Ошибаетесь! Не в ту струну попали! Сегодня не Пасха! – отвечала горничная, взяла меня и, шурша юбками, побежала по лестнице наверх.
– Держи! Держи ее! – крикнул лакей и захлопал в ладоши.
Горничная принесла меня к себе в каморку. Там за столом, на котором стояли ветчина и две бутылки пива, сидел бравый гвардейский «ундер» и крутил ус.
– Нате, откупоривайте сами, а у меня силы нет! – сказала она и кинула меня на стол.
– Это ничего не обозначает, потому вы животрепещущий бутон и ваша сила в скоропалительной любви всех семи чувств, – проговорил заученную фразу ундер и принялся раскупоривать бутылки.
– Пожалуйста, зубы-то не заговаривайте! Вы ведь антриган! – скокетничала горничная и села.
Ундер послал ей через стол летучий поцелуй и продекламировал:
Сколь, Агнеса, ты прекрасна!
С дрожью можем мы сказать!
– Порадейте православные насчет штопорика! – раздался в кухне чей-то голос. – У нас и своих два было, да пришли к хозяину певчие с праздником поздравлять, начали силу зубов пробовать, рюмки грызли да и штопоры кстати переломали.
Это был голос купеческого молодца. Горничная вынесла ему штопор.
– Возьмите, только не потеряйте, потому это не наш, а из седьмого номера! – сказала она.
– Коли штопор потеряю, ваше сердце обрету! – сминдальничал молодец и схватил ее за талию.
– Пожалуйста, без глупостев!
Молодец скрылся.
Я очутился в зале купеческой квартиры. В углу стоял стол, украшенный закусками, графинами и бутылками, и между всего этого возвышался огромный окорок ветчины. У стола сидел купец в медалях на шее и улыбался во всю ширину своего лица, нисколько не отличающегося своим цветом от ветчины. Перед купцом стояли певчие в кафтанах. Тут были большие и маленькие.
Они пили и ели. Кто держал в руках рюмку, кто кусок пирога. И сам купец, и большие и малые певчие – все были пьяны.
– Всем я благодатель! – говорил купец. – У меня в праздник приходи хоть с виселицы, прославь меня, и после этого пей и ешь. Сколько вам дал купец Крутолобов за христославенье?
– Лиловую отвалил! – отвечали певчие.
– Ну а Волопятов?
– Три румяные.
– Так. Сколько же после этого меняла из Троицкого переулка отвалил?
– Менялу не застали. Его и в Петербурге нет. Он уехал с женой в Москву гулять. Боится здесь-то. Того и гляди, говорит, с моей гульбой-то в газету попадешь. Ведь очень он насчет гульбы-то ядовит!
– Ну а Затылятников?
– Затылятников семь донских прожертвовал.
– Отлично. Ну а я серию дам, как есть серию, и с процентами, только возвеличьте меня!
– Погодите, Родивон Михайлыч, дайте передышку легкую сделать, а там два концерта зараз отваляем!
– Премудро! Братцы! Пей, ешь и веселись. Кто меня любит, тот из бутылочного горла и до дна!
Певчие схватили по бутылке и начали пить из горла. Хозяин ликовал и рдел от восторга. Явились парильщики и начали поздравлять.
– Банные люди! Можете вы меня возвеличить и превознесть?
– Когда угодно, ваше степенство, тогда и возвеличим! До самого полка вознесем, потому что вы у нас купец обстоятельный, – отвечали парильщики.
– Пейте, коли так!
И люди пили. Признаюсь, у купца мне было много дела, и я порядочно-таки утомился. Душевно рад я был, когда меня потребовали в другую квартиру, к портному. Портной вернулся откуда-то из гостей с подбитым глазом, и увы! Мне пришлось откупоривать уже не вино, а бутылку свинцовой примочки. О! Как не хотелось влезать мне в пробку ненавистной для меня примочки! Это совсем не входило в мою специальность. Я заплакал. Но судьба судила мне еще более печальную участь! Вечером пришлось мне откупоривать даже бутылки с лекарственным лимонадом, принесенным из аптеки!
Рад-радешенек я был, когда попал в молодцовскую комнату приказчиков того купца, которого возносили и возвеличивали певчие и парильщики. Сначала мне пришлось откупоривать пивные бутылки, и, исполнив это с подобающим достоинством, я отдохнул от моих дел на залитом пивом столе. Здесь я дежал довольно долго. Молодцы, одурманенные в конец, улеглись спать и захрапели на все лады. Они храпели так громко, что с первого раза мне показалось, что это играет оркестр под управлением капельмейстера Вухерпфенига. В комнате не спал лишь один молодой приказчик и ворочался с боку на бок. Кровать его находилась у запертой двери, замочная скважина которой была замазана замазкой и заклеена бумагой. За дверью слышались молодые женские голоса. Это была комната хозяйской дочки. У ней гостила подруга. Ложась спать, девицы резвились, смеялись, и это-то не давало покоя молодцу. Он сел на кровати и начал что-то обдумывать, потом схватил меня со стола, засунул в дверную скважину, начал буравить замазку и… и в конце концов переломил мою спираль около самой ручки.
Я погиб! Имей я голос, я, наверное, взвыл бы белугой!
В это время в кухне раздался звонок, и спустя некоторое время я услыхал знакомый мне голос. В кухню ломился чиновник, мой первый владелец, купивший меня в Гостином дворе. Он был пьян и требовал свой штопор…
Его удалили из квартиры с помощью дворников.
III. Записки рублевой бумажки
Пишу эти записки на закате дней моих, в то время, когда уже я вконец обтрепалась, потеряла свой первобытный глянец, утратила правый номер, пропахла запахом соленой рыбы, меди и сапожного товара, а злые люди вырвали из моего тела мою душу за подписью матери моей – Ламанского и какого-то кассира, фамилию которого я при всем желании так и не могла разобрать в течение всей своей жизни. Теперь я заклеймена мацом, связана в пачку с другими бумажками, заключена в кладовую и осуждена на публичное всесожжение в железной клетке на дворе государственного банка. И это награда за долговременную скитальческую службу от убогого подвала бедняка до раззолоченных палат богача! Где же тут справедливость? С ужасом я ожидаю приближения моего смертного часа. Страшно! Страшно! Неужели неизвестный отец мой не спасет меня и не вырвет из мрачного заточения? Впрочем, нет, он и не обратит внимания на ничтожную рублевую бумажку!
Похождения свои в банке, среди банковских чиновников, я не буду описывать. Не потому, чтобы я не хотела выдавать семейных тайн, а просто потому, что все, что касается этой жизни, у меня изгладилось из памяти. Очень может быть, что кто-нибудь у меня и отшиб эту память.
Помню только одно: что на свет божий я явилась свеженькая, гладенькая, с приятным шелестом, веселенькая – точь-в-точь танцовщица, только что выпущенная из театрального училища в балет. Меня променяли на купоны второго внутреннего выигрышного займа, и я очутилась в объемистом и мрачном бумажнике купца, куда поместилась во весь свой рост, не быв даже сложенною пополам. Я лежала в сообществе крупных бумажек и гордилась этим, хотя они не обращали на меня ни малейшего внимания. Еще трехрублевые и пятирублевые иногда заговаривали со мной, но и то свысока; когда же я однажды обратилась с каким-то вопросом к сторублевой бумажке, то она презрительно улыбнулась подписью, скосила номера и крикнула: «Молчи!» Двадцатипятирублевые и десятирублевые бумажки громко, но почтительно захохотали. С тех пор я уже не решалась первая заговаривать со старшими.
С купцом я несколько раз была в купеческом клубе, сидела за карточным столом, но самый клуб видела только украдкой, в то время, когда купец вытаскивал из кармана бумажник и вынимал оттуда моих крупных сотоварищей по заключению. О, какие алчные рожи игроков приходилось мне тогда видеть! Какие позеленевшие губы и желтые лысины! Всякий раз, уходя из клуба, купец бормотал: «Ничего, нажгли бок, важно вычистили полушубок!» – и при этом плевал. В бумажнике купца пролежала я дней пять, после чего купец вынул меня, сложил пополам и в сообществе трех зелененьких бумажек запихал в конверт. В конверте этом было письмо следующего содержания: «Господин концертщик! Вы прислали мне кресло на ваш концерт, хотя я об этом и не просил вас. В концерте вашем я не был, считая лучше и полезнее провести это время в Туляковых банях, что и сделал. Но все-таки, не желая вас лишать подачки, посылаю вам 10 рублей, двойную цену против того, что стоит билет, прося на будущее время освободить меня от вашей любезности по части присылки билетов. За 5 рублей этих лишних денег, называемых вами призами, возьмите на себя любезность предупредить ваших собратьев по ремеслу, дабы и они не трудились мне присылать билеты на их кошачьи концерты или бенефисы, ежели не желают получать от меня цедулок, подобных сей цедулке».
Прочитав это письмо, концертант тотчас же разорвал его и проговорил:
– Э, наплевать! Брань на вороту не виснет, а деньги-то ты все-таки прислал, мой милый! Что ж, нам только этого и нужно! А до будущего года еще далеко, почтеннейший…
Концертант даже не успел и спрятать нас, приложение, в свой карман, как в кухне послышался резкий возглас кухарки:
– Дома нет!
– Как дома нет? А вот его калош, вот его пальто, – отвечал чей-то немецко-чухонский голос. – Я знай его пальто. Я сам шил, и он мне еще деньги не заплатил. Пустить меня! Как можно не пущать!
За дверью легкая борьба. Вскоре дверь отворилась, и показалась сначала спина с затылком, а потом и черномазое лицо портного.
– А, это ты, Карл Иваныч, – проговорил концертант. – Садись! Ты, верно, за деньгами? Плох, брат, сбор от концерта, совсем плох… Еле концы с концами свел. Водочки не хочешь ли?
– Я на мировой подам.
– Зачем к мировому, а ты зайди эдак через недельку.
– Нет, я на мировой…
– Экой ты несговорчивый! Ну, сколько там осталось за мной?
– 13 рубли. Два год хожу…
– Бери 10 и подписывай счет, а то так подавай к мировому, хлопочи, теряй время, – предложил концертант.
Портной почесал затылок, подписал счет и взял деньги.
«Мерзавец! Скотина!» – обменялись они друг с другом любезностью, и я очутилась в тощем кошельке немца-портного.
Немец тотчас же отправился к Карповичу. По дороге ему попадались давальцы его и ругали его, спрашивая, когда же он доставит им платье.
– Материю берете, жадничаете, а по месяцу несшитой держите.
– Ах, господин! Вы знает штучник! Это такой трекляты русски народ! – восклицал немец.
«Треклятый народ» был, однако, не русский штучник, а сам немец, ибо материя, о которой шла речь, была заложена у Карповича, как я узнала впоследствии.
Ростовщическое светило Карпович, слава которого гремела от Лиговки до Таракановки, от берегов Черной речки до Обводного канала, сам был в конторе. Немец выкупил у него из залога два сметанных пальто и не скроенную еще материю на сюртук, отдав ему взамен всего этого нас, покоившихся в его тощем кошельке. И тут я впервые увидела Карповича. Ей-ей, в нем не было ничего замечательного. Совсем обыкновенное лицо и ничего кровожадного или алчного. Нос на месте, два глаза как следует, уши короткие, как у всех людей, зубы изо рта не выдаются, но, кажется, вставные.
Карпович взял нас, бумажки, в руку и небрежно кинул в выручку. Я очутилась в большом сообществе зелененьких, синеньких, лиловеньких бумажек. Замечательно то, что в ростовщической выручке были все равны, и портретные бумажки не кичились предо мной, «канарейкой». Я попробовала было начать с ними разговор, но на самом интересном месте была вынута из выручки, и мои наблюдения над бумажками ростовщика ограничились только тем, что я заметила, что от большинства их пахло слезами.
Меня отдали какому-то франтоватому бакенбардисту взамен заложенной енотовой шубы. Он, не считая, схватил тощую пачку, в которой я лежала, и небрежно засунул ее в брючный карман. Уходя, он любезно раскланялся с Карповичем и сказал:
– Знаете, зачем я отдаю вам каждую весну свою шубу? Просто на хранение. Я заметил, что ни в одном магазине не сохраняют так меха во время лета, как у вас. Ей-богу. И вот, вследствие этого, я нахожу даже более выгодным платить вам большие проценты. Года четыре тому назад я отдал мою ильковую шубу в меховой магазин, и, представьте себе, мерзавцы наполовину скормили ее молеедине.
Вышедши из подъезда, бакенбардист вскочил в эгоистку и помчался по Невскому. Вскоре мы приехали в цветочный магазин. Бородатые приказчики встретили бакенбардиста поклонами.
– Князь был? – спросил он.
– Были-с.