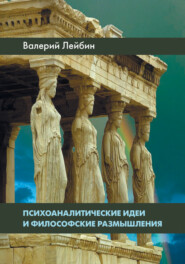скачать книгу бесплатно
В свою очередь, в книге Дж. Рубинса рассматривается вопрос о влиянии ученых на формирование теоретических представлений Хорни о природе человека, его движущих силах, отношениях с окружающим миром, неврозах и причинах их возникновения. По мнению автора, на становление психоаналитических концепций Хорни существенное влияние оказали не только Фрейд, но и такие психоаналитики, как К. Абрахам, М. Эйтингон, Г. Либерманн, Г. Гроддек, Ф. Александер, Г. С. Салливан, Э. Фромм, К. Томпсон и другие.
Большинство из перечисленных психоаналитиков хорошо известны в зарубежных психоаналитических кругах. Отчасти их имена известны и отечественным ученым. Имя же Г. Гроддека мало что говорит, поскольку его идеи практически не освещены ни в западной психоаналитической, ни в отечественной психологической литературе. Но именно он оказал, как считает Дж. Рубине, заметное влияние на Хорни, поскольку, фактически, он являлся «ее наставником, неформальным терапевтом, идеалом и хорошим другом» (там же, р. 65).
Стоит обратить внимание на то, что психоаналитические идеи Г. Гроддека были использованы и развиты на только Хорни, на что указывает Дж. Рубине, но и Фрейдом. Известно, что в 1920 г. Фрейд попросил Г. Гроддека выступить на VI Международном психоаналитическом конгрессе и подробно осветить те идеи, которые были изложены им ранее в статье о силах и процессах, имеющих место в бессознательном. Основоположник психоанализа настороженно отнесся к представлениям Г. Гроддека, согласно которым бессознательное является всепоглощающей силой, наделенной не столько негативными, сколько позитивными тенденциями развития. Вместе с тем Фрейд подхватил идею Г. Гроддека, предложившего обозначать бессознательное термином «Es» (Оно). В 1923 г. основатель психоанализа не только ввел в свои концептуальные схемы понятие Оно для характеристики бессознательного психического, но и выдвинул психоаналитическое представление о структуре психики, состоящей из трех инстанций – Оно, Я и Сверх-Я.
Специально посвятивший свое исследование раскрытию истории возникновения психоаналитических идей, Ф. Салловей не обратил внимание на нововведение Г. Гроддека, относящееся к понятию Оно. Между тем сам основатель психоанализа открыто заявлял, что «взглядам Groddek'a следует отвести надлежащее место в науке» (Фрейд, 1924, с. 20).
Фрейд и Хорни находились под влиянием не только неврологов и сексологов, но и философов. Так, рассматривая связь между психоаналитическими концепциями и философскими идеями, Ф. Салловей замечает, что в процессе обучения в Венском университете Фрейд прослушал пять курсов по философии, прочитанных известным в то время философом Ф. Брентано. Два из пяти курсов были посвящены Аристотелю. Фрейд был знаком и с философскими идеями Шопегауэра, Э. фон Гартмана, Ф. Ницше. Цитируя Г. Элленбергера, рассмотревшего в книге «Открытие бессознательного» (Ellenberger, 1970) вопрос о влиянии этих философов на мировоззрение основателя психоанализа, Ф. Салловей приводит высказывание Т. Манна, согласно которому фрейдовские теории являются не чем иным, как шопенгауэровскими доктринами, «перенесенными из метафизики в психологию» (с. 253). Фрейд, по мнению Ф. Салловея, был знаком также с работами У. Джемса и имел, по всей видимости, представления о философии Г. Спенсера, поскольку английский невролог Дж. Джексон, заимствовавший некоторые идеи этого философа, оказал определенное влияние на основателя психоанализа.
Что касается влияния философских идей на формирование психоаналитических воззрений Хорни, то, как подчеркивает в своей книге Дж. Рубине, в студенческие годы она увлекалась философией, была знакома с работами И. Канта, Ф. Ницше, С. Кьеркегора, Э. Гуссерля, К. Ясперса и неоднократно обсуждала их со своими друзьями, среди которых были и такие, кто специально изучал философию. Позднее, став практикующим психоаналитиком, Хорни участвовала в дискуссиях с П. Тиллихом и Г. Циммером по поводу понимания и трактовки экзистенциализма М. Хайдеггера, логического позитивизма Р. Карнапа, символизма Э. Кассирера. На протяжении многих лет П. Тиллих был близким другом Хорни и его философские идеи, несомненно, оказали соответствующее влияние на ее мышление. Не меньшее влияние на Хорни оказали и философские воззрения А. Швейцера на человека и культуру. В последние годы жизни она стала проявлять особый интерес к восточной философии, в частности к дзен-буддизму. Хорни не только нашла общие мотивы между психоанализом и буддизмом, но и попыталась интерпретировать основные понятия этой философии в терминах психоаналитического учения (Rubins, 1979, р. 258, 322, 331, 333).
Излагаемый в обеих книгах материал, свидетельствующий о влиянии философов на формирование психоаналитических концепций Фрейда и Хорни, заслуживает, на мой взгляд, самого пристального внимания. Дело в том, что многие как зарубежные, так и отечественные ученые и врачи не признают ни философских истоков возникновения психоанализа, ни наличия какого-либо философского содержания в психоаналитических учениях Фрейда и Хорни. При этом часто ссылаются на высказывание Фрейда, согласно которому он только в позднем возрасте познакомился с философскими работами Шопенгауэра и Ницше, а также на психопатологическую тематику публикаций Хорни, являющуюся наглядным подтверждением ее явно не философских теорий.
Подобная точка зрения представляется спорной. Как было показано в одной из моих работ (Лейбин, 1977), становление психоаналитических теорий было обусловлено как естественнонаучными, так и философскими идеями, а психоаналитическое учение Фрейда в целом легло в основу фрейдизма – распространенного течения в зарубежной философской мысли. Можно, как мне представляется, говорить не только о философско-мировоззренческом характере психоаналитического учения Фрейда о человеке и культуре, но и психоаналитической философии, оказавшей, кстати сказать, заметное влияние на формирование ряда новых философских направлений на Западе.
В равной степени эти соображения могут быть отнесены и к психоаналитическому учению Хорни о человеке, поскольку, хотя она исследует, казалось бы, сугубо медицинские проблемы психопатологии, тем не менее их рассмотрение осуществляется под углом зрения решения не узко клинических, а культурно-философских задач, предполагающих философское осмысление бытия человека в мире, нравственных ценностей и идеалов личности. Обращение к невротикам, как подчеркивала она сама, «не является только предметом клинического интереса, но включает фундаментальную проблему морали, человеческих желаний, поступков» (Ногпеу, 1950, р. 14). Речь идет, следовательно, не столько о заимствовании Хорни философских идей, сколько о выдвижении специфической психоаналитической философии, на основе которой предпринимается попытка объяснить закономерности как индивидуально-личностного, так и социокультурного развития.
Думается, материалы исследований Ф. Салловея и Дж. Рубина могут служить подтверждением отстаиваемой мною точки зрения.
Первый автор не только обращает внимание на связь психоаналитических идей Фрейда с распространенными в то время философскими теориями, но и приводит высказывание основателя психоанализа, который в 30-х годах подчеркнул, что его открытия являются основой для вполне серьезной философии, хотя немногие оказались способными это понять. Комментируя данное высказывание основоположника психоанализа, Ф. Салловей заметил: «Фрейд был прав. Лишь немногие могут понять его серьезную философию» (Sullow, 1979, р. 439).
В свою очередь, Дж. Рубине показывает, что Хорни не только обнаруживает глубокое знание феноменологии и экзистенциализма, но и соотносит некоторые из выдвигаемых ею теоретических положений с философскими идеями Платона, Августина, Кьеркегора и Гуммерля. Излагая психоаналитические концепции Хорни, он приводит выдержку из рецензии одного из американских социологов на ее книгу «Неврозы и развитие человека», который отмечал, что данная книга «может быть рассмотрена как работа по моральной философии» (Rubins, 1979, р. 302). Что касается обращения Хорни к восточной философии, то приводимые Д. Рубинсом данные на этот счет подтверждают вывод некоторых зарубежных и отечественных исследователей о тесной связи между неофрейдизмом и дзен-буддизмом. До сих пор этот вывод вытекал из анализа работ Э. Фромма, уделившего внимание выявлению сходств и различий между психоанализом и дзен-буддизмом (Fromm, Suzuki and Martino, 1970). Теперь же появились новые материалы о Хорни, свидетельствующие о правомерности соотнесения ее идей с рядом философских концепций.
Итак, рассмотрение Ф. Салловеем и Дж. Рубинсом идейного влияния неврологов, сексологов и философов на психоаналитические концепции Фрейда и Хорни, несомненно, способствует внесению дополнительных штрихов в понимание становления и развития психоанализа. Однако, как мне представляется, оба автора далеко не полностью раскрыли освещаемый ими вопрос.
Так, в книге Дж. Рубинса практически ничего не говорится о том идейном влиянии, которое оказал на Хорни основатель индивидуальной психологии А. Адлер. Автор лишь упоминает, что в 1925 г. Хорни и Адлер встретились за чашкой кофе в перерыве между лекциями, прочитанными ими перед студентами Гумбольдтского университета, и что будто бы Хорни, по ее собственным словам, скептически относилась к адлеровским идеям, хотя и не выступала против них (Rubins, 1979, р. 111).
Не зная достоверных источников, трудно судить о личном отношении Хорни к Адлеру. Однако, сравнивая их концепции, можно с полным основанием предположить, что адлеровские идеи оказали определенное влияние на становление психоаналитических идей Хорни.
В самом деле, в начале 20-х годов Хорни обратилась к исследованию женской психологии, выдвинув ряд теоретических положений, фактически противостоящих фрейдовскому пониманию психологических последствий, вытекающих из анатомических различий между полами. Впоследствии проблема женской психологии стала тем отправным пунктом, который в значительной степени предопределил критическое отношение Хорни к целому ряду идей, выдвинутых Фрейдом. Но именно по этому вопросу, т. е. против фрейдовского толкования «ущербности женщин» выступил Адлер. Он выдвинул, в частности, концепцию «мужского протеста», которая вызвала резкое возражение со стороны Фрейда, подчеркивавшего, что «этот мужской протест – главный двигатель Адлера – однако, есть не что иное, как отделение от своего психологического механизма вытеснение» (Фрейд, 1919, с. 40).
В ряде своих статей Адлер предпринял попытку развенчаний мифа о «женской неполноценности», считая, что данный миф уходит своими корнями в современную патриархальную культуру и что «наиболее важная проблема в нашем обществе – это женский вопрос» (Adler, 1978, р. 25). Очевидно, эти адлеровские идеи не могли не оказать влияние на Хорни, уделившей столь пристальное внимание раскрытию женской психологии.
Влияние Адлера на Хорни ощущается не только в этом вопросе. Известно, что в своих последних работах она выдвинула концепцию самореализации сущностных сил человека. Согласно данной концепции, каждый индивид имеет свой «план жизни» или «внутреннее направление» (Ногпеу, 1950, р. 167). Эти представления Хорни согласуются с идеями Адлера, считавшего, что человеческое существо вырабатывает внутри себя «телеологический план души» (The Individual Psychology, 1956, p. 93), руководящую линию поведения, личностную философию или «стиль жизни», с помощью которых обеспечивается достижение конечной цели – саморазвертывание внутренних потенций личности, направленных на «решение жизненных проблем в интересах эволюции как индивида, так и человечества» (Adler, 1979, р. 304).
Из данного сопоставления нетрудно понять, что тесная связь между концепцией самореализации Хорни и идеями Адлера о плане жизни, стиле жизни вполне очевидна. Дж. Рубине же совершенно не касается данного вопроса, хотя одну из заслуг Хорни он усматривает именно в выдвижении ею концепции самореализации сущностных сил человека.
Отмечу, что идеи Адлера не рассматриваются, по сути дела, и в работе Ф. Салловея. Правда, автор упоминает его имя в связи с расхождениями между Фрейдом и основателем индивидуальной психологии. Однако ссылки на Адлера не соотносятся с основным исследуемым вопросом – раскрытием идейного влияния ученых и медиков на формирование психоаналитических концепций Фрейда.
Между прочим, вопрос о взаимовлиянии Фрейда и Адлера друг на друга, на становление и развитие их собственных теорий представляет значительный интерес с точки зрения освещения истории психоаналитического движения.
В зарубежной литературе рассматривается, как правило, лишь влияние Фрейда на Адлера. И такое влияние действительно имело место. Можно говорить, например, о том, что в результате критического отношения Фрейда к ранним адлеровским представлениям о мужском протесте позднее Адлер внес коррективы в свое учение о человеке. Но в зарубежной литературе не освещен вопрос о том, как и какое влияние на основателя психоанализа мог оказать Адлер.
Однако история развития психоаналитического движения свидетельствует о том, что именно под воздействием индивидуальной психологии Фрейд пересмотрел некоторые первоначально сформулированные им концепции. В частности, под влиянием Адлера, выдвинувшего тезис о присущем стремлении человека к совершенству, Фрейд, первоначально отрицательно относившийся к идее совершенства как к цели индивида, со временем изменил свою позицию. Он признал, что высшая цель жизни, по всей вероятности, «сводится к усовершенствованию человека» (Фрейд, 1930, с. 22).
Известно также, что Адлер одним из первых выдвинул представление об «идеале Я». Не исключено, что данное адлеровское представление послужило идейным источником для соответствующих концепций Фрейда, проявившего интерес к проблеме «Я-идеала» и в 20-х годах более внимательно рассмотревшего взаимоотношения между различными инстанциями в структуре психики, а также обратившего внимание на то, как и каким образом «Я-идеал» воздействует на формирование психологии масс. Так, он полагал, что раскрытие сути данной психологии может быть осуществлено посредством рассмотрения отношений между Я и идеалом. В таком же ракурсе Фрейд пытался объяснить и чувство вины, полагая, что оно может быть осмыслено «как разногласие между Я и Я-идеалом» (Фрейд, 1925, с. 82).
Не могу согласиться с некоторыми суждениями, содержащимися в работах Дж. Рубинса и Ф. Салловея. Так, вызывают возражение односторонние, на мой взгляд, оценки первого автора, относящиеся к описанию интеллектуального климата, в котором происходило становление и развитие психоанализа. Дж. Рубине разделяет широко распространенную в психоаналитической литературе версию, согласно которой первоначально сформулированные Фрейдом психоаналитические идеи вызвали резкую оппозицию, обусловившую изоляцию основателя психоанализа в научном мире. В подтверждение этого положения он ссылается на официального биографа Фрейда Э. Джонса, утверждавшего, что до Первой мировой войны на Западе существовала довольно сильная оппозиция психоанализу, и приводившего в качестве иллюстрации тот факт, что редколлегия немецкой медицинской энциклопедии, в 1914 г. предложившая Фрейду написать статью о неврозах, в дальнейшем отказалась опубликовать ее и включила в свое издание соответствующий материал другого автора, который придерживался не психоаналитических взглядов, в традиционной позиции.
Дж. Рубине полагается всецело на авторитет Э. Джонса и не принимает во внимание иные точки зрения и иные факты, ставящие под сомнение достоверность версии о широко распространенной в то время среди западных ученых оппозиции Фрейду. Однако, как убедительно показывает Ф. Салловей, подобная версия является не чем иным, как легендой, выдвинутой и поддерживаемой психоаналитиками для того, чтобы превратить Фрейда в героя, находящегося будто бы в полной изоляции и мужественно преодолевшего все преграды, стоящие на пути признания и распространения психоанализа в различных странах мира.
Разумеется, было бы неверным полагать, что все психоаналитические идеи Фрейда были безоговорочно приняты критически мыслящими учеными и врачами. Напротив, некоторые из них, особенно касающиеся психоаналитического понимания причин возникновения и существа неврозов, вызвали возражения в медицинских кругах. По всей вероятности, именно этим можно объяснить факт неприятия фрейдовской статьи о неврозах, упомянутой Дж. Рубинсом. Но подобная негативная реакция не распространялась на другие фрейдовские идеи и представления.
Как подчеркивает Ф. Салловей, с момента своего возникновения многие психоаналитические идеи не встретили сколько-нибудь серьезной оппозиции в научной среде стран Запада. Так, несмотря на то, что имелись отдельные неблагожелательные отзывы на книгу «Толкование сновидений» (1900), в которой Фрейд впервые, по сути дела, изложил основные психоаналитические идеи, в целом данная работа была встречена с одобрением в научных кругах и широко освещена в популярной и научной периодике. Многие рецензенты назвали эту книгу эпохальной и глубокой. Другое дело, что возникли трудности с распродажей «Толкования сновидений». Но это объяснялось, по убеждению Ф. Салловея, не ее нетрадиционным содержанием и непризнанием учеными психоаналитического подхода к исследуемым проблемам, а несогласованностью, имевшей место между Фрейдом и издателем данного труда.
В частности, предварительно не переговорив с издателем предыдущей книги, Фрейд опубликовал в 1901 г. работу «О сновидениях», которая, будучи изданной в медицинской серии, затруднила распродажу более солидного по объему «Толкования сновидений». Но это не повлияло на общую благожелательную оценку фрейдовских идей о сновидениях. После выхода в свет обоих работ появилось, по данным Ф. Салловея, 30 рецензий на них, а при жизни основателя психоанализа эти книги были переведены на 12 иностранных языков (Sullow, 1979, р. 349).
Широкое распространение и признание на Западе получили и другие работы Фрейда, написанные и опубликованные им до Первой мировой войны. Обращая внимание на эти факты, Ф. Салловей отмечает, что уже в 1908 г., когда фрейдовский кружок, куда первоначально входила незначительная по численности группа сторонников Фрейда, превратился в Венское психоаналитическое общество, психоаналитические идеи, при всем настороженном или критическом отношении к ним со стороны некоторых медиков, стали приобретать все большее распространение, в результате чего возникло психоаналитическое движение, стоявшее «на пороге мирового признания» (Sullow, 1979, р. 360).
Стало быть, версия о глубокой оппозиции Фрейду, которой придерживается в своей работе Дж. Рубине, является сомнительной. Во всяком случае, при раскрытии интеллектуального климата, в котором происходило становление и развитие психоанализа, данная версия не может быть принята как нечто само собой разумеющееся, и, следовательно, занимаемая Дж. Рубинсом позиция по этому вопросу не представляется оправданной.
Надо отдать должное тому, что в исследовании Ф. Салловея не только опровергается версия о «научной изоляции» основоположника психоанализа, но и раскрывается существо многих мифов, возникших вокруг личности Фрейда и его психоаналитического учения о человеке. Среди западных ученых бытует, например, мнение о том, что психоанализ возник в результате расхождения Фрейда с Й. Брейером по вопросу этиологии неврозов и метода лечения больных, страдающих истерией. Согласно утверждениям некоторых из них, Брейер будто бы отрицал сексуальную причину возникновения психических заболеваний и, используя метод катарсиса, придерживался физиологической точки зрения на человека, в то время как Фрейд настаивал на сексуальной этиологии неврозов и, прибегнув к методу свободных ассоциаций, ратовал за создание «чистокровной психологии». Такое понимание истоков возникновения психоанализа представляет, по мнению Ф. Салловея, один из распространенных мифов, предназначенных для трактовки психоанализа как «исключительно психологической науки», радикально порывающей с биологизмом и соматическим редукционизмом предшествующих неврологических концепций, и для провозглашения революционного переворота в медицине. В действительности же Брейер признавал роль сексуального фактора в неврозах и полагал, что сексуальный инстинкт является реальным источником и компонентом истерии. Расхождения между Фрейдом и Брейером заключались лишь в том, что первый абсолютизировал роль сексуальности в возникновении неврозов, в то время как второй рассматривал сексуальность в качестве одного из возможных, но отнюдь не обязательных факторов, обусловливающих любой случай истерии и психических расстройств как таковых. Фрейд, по убеждению Ф. Салловея, находился под влиянием биологических концепций XIX столетия в не меньшей степени, чем Брейер, который во многих отношениях был «первым психоаналитиком» и в то же время «первой жертвой психоаналитически реконструированной истории» (Sullow, 1979, р. 103).
Другой не менее распространенный миф заключается в трактовке фрейдовской работы «Проект научной психологии» (1895), опубликованной десятилетие спустя после смерти основоположника психоанализа, как исключительно «неврологического документа», являющегося анахронизмом, по сравнению с последующими психоаналитическими трудами Фрейда, относящимися к сфере «чистокровной психологии». Цель подобного мифа – подчеркнуть решительный разрыв Фрейда с ранним нейрофизиологическим редукционизмом и нивелировать наличие биологических тенденций в психоанализе. В действительности же, подчеркивает Ф. Салловей, «Проект научной психологии» не является ни исключительно «неврологическим», ни всецело «психологическим» (имеется и такая точка зрения) документом. Он представляет собой мозаику различных идей и подходов, попытку устранить концептуальный разрыв между нормальным и патологическим функционированием психики, стремление использовать нейрофизиологические принципы исследования для осмысления психологических проблем. В соответствии с таким видением существа работы «Проект научной психологии» Ф. Салловей приходит к заключению, согласно которому Фрейд никогда не отказывался от своих первоначальных концептуальных представлений, относящихся к пониманию того, что психоанализ может иметь дело с нейрофизиологическими аспектами психической деятельности человека.
Еще один миф – отрицание какого-либо интеллектуального влияния Ф. Флисса, на протяжении 15 лет поддерживавшего дружеские отношения с Фрейдом, на формирование тех или иных концепций основателя психоанализа. Те, кто поддерживает этот миф, считают, что, будучи «псевдонаучными», флиссовские теории бисексуальности, биопотоков и биоциклов не оказали никакого влияния на психоаналитическое мышление Фрейда. Однако, как полагает Ф. Салловей, подобный взгляд на отношения между Флиссом и Фрейдом не соответствуют исторической действительности. Ставшая доступной для исследователей документальная переписка между Фрейдом и Флиссом, в которой был затронут широкий круг научных проблем, опровергает данный миф и свидетельствует о несомненном влиянии берлинского врача на формирование психоаналитических концепций инфантильной сексуальности, оральной эротики и паранойи, а также на становление психоаналитических идей о роли бессознательного в жизни человека, о функциях либидо и значении механизма подавления, вытеснения в процессе образования неврозов.
В зарубежной литературе не менее распространен и миф, согласно которому психоанализ является собственным продуктом самоанализа Фрейда, позволившего ему открыть наличие инфантильной сексуальности и бессознательных влечений, предопределяющих жизнедеятельность человека. Функциональное предназначение этого мифа – подтверждение стереотипных представлений о том, что Фрейд совершил будто бы «геркулесовский подвиг», психоанализ представляет собой «независимую науку», а психоаналитические идеи были выдвинуты на основе результатов клинической практики.
Исследуя выдвинутые Флиссом и Фрейдом идеи, Ф. Салловей приходит к выводу, согласно которому истоки психоаналитической концепции инфантильной сексуальности лежат не во фрейдовском самоанализе, а в том идейном влиянии, которое имел на основателя психоанализа Флисс, а также сексологи, включая Эллиса, Блоха, Линдера. Такие понятия, как «либидо», «бессознательное», «эрогенные зоны», использовались не только Флиссом и другими врачами, но и писателями, поэтами, философами, включая Новалиса, Шопенгауэра, Ницше.
Сексуальная биология, эволюционная теория и открытые Флиссом биогенетические законы могут быть рассмотрены как непосредственные источники психоаналитических идей, свидетельствующие о том, что отнюдь не клиническая практика Фрейда и его самоанализ были единственными источниками возникновения психоаналитического метода изучения человеческой психики. По выражению Ф. Салловея, можно сказать, что непонимание современными исследователями той роли, которую Флисс и другие врачи играли в формировании концептуальных представлений Фрейда, фактически, отражает «скрытую биологическую природу» всего психоаналитического наследия (Sullow, 1979, р. 237).
Биографы Фрейда из числа ортодоксальных психоаналитиков создали миф о том, что фрейдовские биогенетические идеи являются поздним дополнением к его психоаналитическому учению о человеке, которое было выдвинуто под влиянием представлений К. Абрахама, Ш. Ференци, В. Штекеля о биологической природе человеческой психики. Подобно другим, данный миф призван «узаконить» психоанализ в качестве «чистокровной психологии». По убеждению Ф. Салловея, текстологический анализ как ранних, так и поздних работ Фрейда свидетельствует о том, что на протяжении всей своей научной деятельности основатель психоанализа постоянно колебался между Сциллой критического отношения к биологическим идеям и Харибдой неразрешимых психобиологических проблем. Фрейд выступал против крайних биологических тенденций в медицине, но это не исключало влияния биологии на его психоаналитические концепции.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: