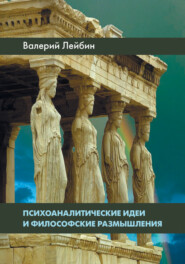скачать книгу бесплатно
Szasz Th. Ideology and Insanity. London, 1973.
Szasz Th. The Manufacture of Madness. A Comparative Study of the Inquisition and the Mental Health Movement. London, 1972.
The Neurosis of Our Time: Acting Out / Ed. by D. S. Milman and G. D. Goldman. Spriengfield, 1973.
Worsnop R. Sexual Revolution. Myth or Reality // Editorial Research Reports. 1970. V. 1. № 13.
1975
Очерк о фрейдовском психонализе
Интерес к теоретическому наследию основателя психоанализа и к самой фигуре Фрейда весьма значителен на Западе. Каждый западный теоретик, обращающийся к Фрейду, стремится не только выразить свое отношение к психоанализу, но и дать «единственно верную», с его точки зрения, интерпретацию психоаналитических теорий. Наглядной иллюстрацией этого может служить книга американского психиатра Сэмюэля Кана, написанная, по его собственным словам, с целью «прояснить» некоторые идеи Фрейда. Однако в работе нет систематического рассмотрения психоаналитических концепций; она представляет собой серию фрагментарных, не связанных логически очерков.
С. Кан указывает, что на формирование концепций Фрейда оказали влияние такие ученые, как Шарко, Брейер, Брюкке, Гельмгольц, Дарвин и другие. Научные интересы основателя психоанализа объясняются С. Каном в полном соответствии с учением Фрейда о предопределяющей роли ранних лет жизни ребенка в последующей жизнедеятельности человека, о специфических отношениях между ребенком и родителями. Он полагает, что Фрейд был «загипнотизирован» своей матерью, которая с нежностью и любовью относилась к сыну. В свою очередь, любовь и восхищение своей матерью будто бы обусловили как неврозы, так и гениальность Фрейда. Более того, С. Кан пишет, что семейное окружение, взаимоотношение маленького Фрейда с матерью «помогли ему открыть эдипов комплекс» (Kahn, 1976, р. 123).
Автор подчеркивает, что Фрейд трактовал сексуальность в широком и узком смысле слова. С. Кан подмечает, что Фрейда нередко рассматривают как пансексуалиста. В действительности же, говорится в книге, «Фрейд никогда не был ни пансексуалистом, ни антисексуалистом» (там же, с. 47). Он пытался по-своему объяснить ранние стадии сексуального развития детей, соотнося их с поведением взрослого человека и с неврозами личности. При этом основатель психоанализа, как утверждает автор, не рассматривал жизнедеятельность индивида исключительно через призму генитальности и не отстаивал идею свободного проявления сексуальности, как это подчас приписывается Фрейду. Для него было более важным показать, как подавление инстинктивных влечений человека, психические травмы и различные фрустрации в ранние годы жизни влияют на последующее развитие личности. Фрейд сделал предметом своего исследования бессознательное психическое, которое до него далеко не всегда принималось в расчет. Считалось, например, что причиной психических расстройств человека является вселение в его душу дьявола, сговор с ним. «Только благодаря Фрейду, – заявляет автор, – люди начали понимать, что имеется бессознательное, а не дьявол и что плохое поведение – это болезнь» (там же, с. 3).
Конечно, не Фрейду принадлежит открытие бессознательного, ибо об этом уже говорили многие мыслители прошлого, начиная с древнегреческих философов. Но то были, скорее, философские догадки, метафизические спекуляции; основатель же психоанализа пытался дать научное объяснение бессознательному, показать, как оно функционирует в человеческой психике и воздействует на поведение индивида. В этом смысле, пишет С. Кан, «Фрейд действительно был „атомной бомбой“ в психологии» (там же, с. 51). Именно на бессознательном психическом базируются все психоаналитические концепции Фрейда, включая его тройственное деление личности на Оно, Я и Сверх-Я, постулат о непримиримом конфликте между индивидом и культурой, теории эдипова комплекса, сублимации влечений человека в социально приемлемой форме, будь то искусство, религия, наука.
С. Кан, безусловно, прав в том, что ядром психоанализа Фрейда является признание и исследование такой сферы человеческой психики, как бессознательное. Справедливы его замечания и относительно превратного истолкования некоторыми западными теоретиками фрейдовских идей. В частности, он верно фиксирует те искажения в трактовке фрейдовских концепций, которые возникают из неправильного перевода и понимания психоаналитических терминов «Lust», «Trieb» и других. Однако многие его соображения по этому поводу сопровождаются или поверхностной характеристикой фрейдовского психоанализа без подробного освещения специфики психоаналитических концепций, или такими интерпретациями идей Фрейда, которые никак нельзя признать удовлетворительными, отражающими существо психоаналитических теорий. С. Кан много внимания уделяет рассмотрению фрейдовского эдипова комплекса, считая, что исторически эдипов комплекс верен и что имеются соответствующие отношения между историей человечества и эдиповой ситуацией, но он не дает обстоятельного анализа данной фрейдовской концепции.
Как известно, концепция эдипова комплекса вызвала существенные возражения у ученых многих стран, в том числе и у западных. Этнографы обнаружили, что психоаналитические гипотезы об извечном соперничестве между сыном и отцом по отношению к своей матери не находят подтверждения, например, в непатриархальных культурах. С критикой этой гипотезы выступил Б. Малиновский, в частности подчеркнувший, что эдипов комплекс не является универсальным и что он имеет не биологический, а социальный источник. Имелись и иные точки зрения на этот счет. А. Парсон, например, говорит о существовании специфического «семейного комплекса», отличного и от фрейдовской интерпретации эдипова комплекса и от трактовки взаимоотношений в семье, выдвинутой Б. Малиновским. Одним словом, проблема эдипова комплекса стала предметом дискуссий и в западной литературе. Автор же рецензируемой книги, по сути дела, отстраняется от содержательного рассмотрения данной проблемы. Вместе этого он выдвигает новую гипотезу, согласно которой эдипов комплекс в определенной степени свойствен каждому человеку и существует «позитивный комплекс», при котором наблюдается эмоциональная взаимопривязанность ребенка и родителей, и «негативный комплекс» – проявление отвращения и ненависти ребенка по отношению к родителю противоположного пола. При этом С. Кан не дает какого-нибудь содержательного пласта, который бы не был произведен 3. Фрейдом.
Хотелось бы обратить внимание и еще на один момент. С. Кан неправильно, на наш взгляд, интерпретирует воззрения Фрейда на религию. Он утверждает, что Фрейд был религиозным человеком. Правда, автор признает, что основатель психоанализа выступал против догматического толкования религии и против так называемого «персонифицированного бога», наделенного свойствами человеческого существа. Однако реальное положение вещей было таково, что «Фрейд был даже более религиозным, чем большинство из нас», что Фрейд «верил в религию», «верил в бога» (там же, с. 77–76, 80,143).
Следует подчеркнуть, что подобная позиция С. Кана не отражает существа взглядов Фрейда на религию. Известно, что основатель психоанализа рассматривал религию как иллюзию, которая должна быть изжита из сознания людей. Причем Фрейд совершенно недвусмысленно заявил о своей антирелигиозной установке, подвергнув критике как религиозные учения прошлого, так и сам институт религии. «Если, – писал он, – религия не сумела дать людям счастья, сделать их более пригодными для культуры и нравственности, то возникает вопрос, не переоцениваем ли мы ее необходимость для человечества и правильно ли мы поступаем, основывая на ней наши культурные требования?» (Фрейд, 1930, с. 41). И, отвечая на этот вопрос, Фрейд констатировал, что религия противоречит разуму и человеческому опыту.
С. Кан произвольно истолковывает взгляды на религию создателя психоанализа, приписывая несвойственную ему позицию. Это обусловлено тем, что автор сам имеет религиозные убеждения: религия, по его словам, «поддерживает человеческую цивилизацию», и невозможно упразднить все религии, ибо в этом случае «цивилизация придет в упадок» (Kahn, 1976, р. 76). Поэтому можно понять, почему С. Кану хотелось бы видеть Фрейда религиозным человеком, отстаивающим институт религии. Но истина заключается в том, что основатель психоанализа решительно выступал против религии (это, кстати сказать, не могли простить ему те, кто, подобно К. Г. Юнгу, первоначально разделял принципы и установки классического психоанализа).
Несомненный интерес представляют размышления автора рецензируемой книги о соотношении между психоанализом Фрейда и другими психоаналитическими школами, получившими распространение на Западе. В ряде очерков С. Кана сравниваются психоаналитические концепции Фрейда с теориями Юнга, Адлера, Ранка, Хорни, Фромма, Салливана. Во всех случаях это сравнение оказывается не в пользу последователей Фрейда. Адлера он считает человеком, совершенно не понявшим психоаналитических идей и выдвинувшим сомнительные концепции «компенсации», «сверхкомпенсации» и «стремления к власти». Юнг рассматривается как «самый ярый противник» Фрейда, не только не внесший ничего позитивного в развитие психоаналитических теорий, но, наоборот, высказавший догматические идеи, теологические и метафизические спекуляции. Ранк, полагавший, что неврозы обусловлены так называемой «травмой рождения», не дал, по мнению автора, ничего плодотворного для психоанализа, поскольку «теория травмы рождения не представляет какой-либо ценности» (там же, с. 64). Хорни, подвергшая критике взгляды Фрейда на сексуальность и сделавшая акцент не на биологические, а на культурные и социальные детерминанты человеческого поведения, в конечном счете, пишет автор, «противоречит сама себе, принимая некоторые биологические условия» (там же, с. 65). Фромм, обратившийся к рассмотрению социально-экономического бытия человека и посвятивший этой проблематике значительное число работ, говорится в книге, «не знает бессознательного», его исследования не являются фундаментальными, а его философские рассуждения не имеют практической ценности для психотерапии (там же, с. 66). Салливан, отмечает С. Кан, внес значительный вклад в разработку проблем шизофрении: благодаря ему и Шилдеру стала признаваться «реальная ценность психиатрии и динамической психологии для нормальных людей». Однако, когда он отошел от исследования личности и сместил свои интересы в плоскость общественных явлений, его работы, утверждает автор, утратили значимость и весомость (там же, с. 67–69).
С. Кан рассматривает и другую ветвь в западной психологии – школу гештальтистов, к которой причисляет (на наш взгляд, необоснованно) К. Левина. Как известно, Левин попытался описать поведение человека в терминах «пола», «жизненного пространства». Согласно его теории «поля», мотивация человека зависит не столько от прошлого опыта детских лет жизни, сколько от окружающей среды. Поведение для Левина – это результат взаимодействия между человеком и окружающей средой, в которой он обитает. Такой взгляд на мотивацию человеческого поведения был антитезой фрейдовскому подходу к изучению личности или, по крайней мере, претензией на это. С. Кан не рассматривает подробно теоретические концепции Левина, однако, противопоставив их психоаналитическим теориям Фрейда, считает, что теория «поля» страдает очевидной слабостью (там же, с. 106). Вместе с тем он отмечает, что данная теория была воспринята некоторыми психологами как приемлемая корректива к психоаналитическим идеям об «исключительной обусловленности» поведения человека его инфантильной мотивацией.
Альтернативой психоанализу, утверждается в работе, выступила и так называемая «персоналистская» школа, представленная У. Штереном, Г. Оллпортом и другими. В книге внимание акцентируется на персоналистской психологии Оллпорта, учитывающей не столько общие мотивы поведения человека, как это делал Фрейд, сколько уникальную мотивировку отдельной личности. Для Оллпорта связь между взрослым человеком и ребенком является исторической, а не функциональной, как характеризует ее психоанализ. С. Кан солидаризируется в этом вопросе с Оллпортом, считая в то же время, что персоналистская психология имеет серьезный логический просчет – она недооценивает трансформацию инфантильных мотивов в поведении взрослых людей. Рассмотрев данные направления в западной психологии, автор приходит к следующему выводу: психоанализ, представленный Фрейдом, гештальтпсихология в лице Левина и персоналистская психология Оллпорта органически вписываются в динамическую психологию и, несмотря на попытку противостоять друг другу, имеют много общего между собой. Различия между ними, относящиеся только к рассмотрению какого-то одного аспекта человеческого поведения, не свидетельствуют о несовместимости их основополагающих принципов исследования личности (там же, с. 110–110). Автор рецензируемой книги – психиатр, разделяющий психоаналитические установки. Отсюда та тенденциозность, которая весьма отчетливо прослеживается в очерках о фрейдовском психоанализе. В этом отношении многие суждения С. Кана заслуживают серьезной критики. Вместе с тем нам представляется, что знакомство философов, психологов, психиатров с данной книгой будет полезным, ибо в ней отражена теоретическая полемика представителей различных школ в западной психологии. Кроме того, вольно или невольно у авторов книги звучит вполне определенный рефрен: в последнее время многие зарубежные ученые стали скептически относится к практикующим психологическим новациям.
Литература
Фрейд 3. Будущность одной иллюзии. М.-Л., 1930.
Kahn S. Essays in Freudian Psychoanalysis. N. Y., 1976.
1977
Из истории индивидуальной психологии
История становления и развития индивидуальной психологии в определенной степени освещена в исследовательской литературе. Известно, в частности, что Альфред Адлер (1870–1937) первоначально разделял идеи и методологические установки классического психоанализа и являлся одним из наиболее активных членов Венского психоаналитического общества, возглавляемого Зигмундом Фрейдом (1856–1939). Однако со временем он разошелся с основоположником психоанализа по ряду теоретических и клинических вопросов. Расхождения с Фрейдом приобрели столь острый характер, что после обсуждения идей, изложенных Адлером в Венском психоаналитическом обществе на трех заседаниях в январе – феврале 1911 г., он с группой единомышленников покинул данное общество. В июне того же года некоторые сторонники Адлера высказали мысль о необходимости учреждения нового психоаналитического общества, свободного от давления со стороны Фрейда.
В августовском номере «Zentralblatt fur Psychoanalyse» было опубликовано заявление Адлера, в котором он доводил до сведения читателей о своем добровольном выходе из состава редколлегии, поскольку дальнейшее совместное с Фрейдом издание этого журнала представлялось им обоим невозможным. Месяц спустя Адлер основал «Ферейн свободного психоаналитического исследования», членами которого стали С. Furtmuller, A. Neuer, E. Wexberg, D. Oppenheim, О. Kraus, а также другие ученые, разделявшие адлеровские идеи, но не порвавшие с Венским психоаналитическим обществом.
В октябре 1911 г. в Венском психоаналитическом обществе было принято решение о недопустимости одновременного участия в двух обществах. В результате этого решения часть членов Венского психоаналитического общества покинула Фрейда и примкнула а адлеровскому обществу, которое вскоре стало выпускать «Записки ферейна свободного психоаналитического исследования» (Schriften des Vereins fur freine psychoanalytische Forschung).
Основная цель данного издания заключалась в применении выводов, вытекающих из адлеровской «психологии неврозов», к разработке широкого круга проблем философского, педагогического, нравственного, криминального характера. Тем самым на организационном уровне было зафиксировано окончательное размежевание между психологическим учением Адлера, позднее получившим название индивидуальной психологии, и классическим психоанализом Фрейда. Это размежевание нашло свое последующее отражение в изменении названия адлеровского общества. Вместо «Ферейна свободного психоаналитического исследования» оно получило название «Общества индивидуальной психологии».
Основные идеи индивидуальной психологии хорошо известны. Их специфика и суть раскрыты в целом ряде работ, посвященных осмыслению теории и практики того направления, родоначальником которого стал Адлер. Менее известна интеллектуальная атмосфера «Ферейна свободного психоаналитического исследования», способствовавшая формированию концептуальных основ индивидуальной психологии, поскольку о данной атмосфере можно судить не столько по опубликованным материалам «Записок», сколько по характеру заседаний участников адлеровского общества. К сожалению, в истории становления и развития индивидуальной психологии до сих пор имеются «белые пятна», связанные с утратой понимания «живого духа», царившего на заседаниях «Ферейна свободного психоаналитического исследования».
Думается, что обнаруженные материалы, представляющие собой сообщения Раисы Адлер о заседаниях адлеровского «Ферейна» и относящиеся к историческому периоду с сентября 1912 по январь 1913 г., смогут в какой-то степени восполнить существующий пробел в исследованиях по индивидуальной психологии. И не только восполнить существующий пробел, но и внести уточнения в некоторые вопросы, возникающие в связи с установлением хронологических рамок возникновения тех или иных адлеровских концепций и территориальных границ распространения идей Адлера в различных странах мира. Речь идет о восьми заседаниях «Ферейна», краткое сообщение о которых было опубликовано на русском языке в трех номерах издаваемого в России журнала «Психотерапия» за 1913 г. (№ 1, с. 76–77; № 3, с. 193–196; № 4, с. 254–255).
Ниже воспроизводится полный текст сообщений о заседаниях «Ферейна свободного психоаналитического исследования», который был подготовлен Раисой Адлер (в девичестве Эпштейн, дочерью российского промышленника, проходившей обучение за границей и вышедшей замуж за Альфреда Адлера в 1897 г.).
Ферейн свободного психоаналитического исследования
Заседание 17 сентября 1912 г.
Д-р Alfred Adler дает отчет о психотерапевтическом конгрессе в Цюрихе, где он принимал участие как представитель «Ферейна свободного психоаналитического исследования», и сообщает, что направление, которого придерживается «Ферейн» и д-р Adler все более прививается в Швейцарии, что ему удалось завязать отношения со многими психотерапевтами и что его предложение об устройстве в будущем году конгресса в Вене было принято.
Собрание высказывает д-ру Adler'y благодарность за его деятельную и успешную пропагандистскую работу. После этого д-р Adler читает реферат, доложенный в Цюрихе.
Дискуссии. Wexberg находит, что объяснения явлений у истеричных, находящихся в стадии «мужского протеста», гораздо проще и, так сказать, человечнее у Adler'a, чем у Freud'а, объясняющего их подавленной сексуальностью. Д-р Gruner находит, что психические явления можно подвести к одному ряду и к другому, их можно объяснить в смысле сексуальном и в смысле д-ра Adler'a. Schrecker указывает на замечание Poincarre, что задача теории состоит в том, чтобы на основании гипотез можно было объяснить большее число фактов и объяснить их проще, чем это делает другая теория, и что такой теории надо отдать преимущество. Не все равно как сгруппированы явления, и взгляд Adler'a на психоневрозы гораздо ценнее и, в смысле научного единства, гораздо ценнее, чем другие теории. Д-р Furtmuller полемизирует против психического сверхдетерминизма, который защищал д-р Gruner и который приводит к агностицизму. Levy находит, что у «мужского протеста» libido одна и та же основа, и как то, так и другое имеют целью повышение чувства радости. Анализ нормальных людей должен дать ценные результаты. Далее он находит, что понятие сексуальной конституции по степени важности можно поставить на одну ступень с психическим гермафродитизмом. Wexberg полемизирует против утверждения д-ра Gruner'a о параллелизме теорий Freud'a и Adler'a, потому что значение, которое придается сексуальности в обеих теориях, чрезвычайно различно. G. Gruner находит, что теории Freud'a и Adler'a вовсе не так различны, как они сами думают, но он считает, что теория Adler'a терапевтически более действенна. Обе теории сводятся к влиянию инстинктов. Что касается сверхдетерминизма, то это не что иное, как закон соотношений, примененный к психическому. Freschl полемизирует против особенного подчеркивания психического сверхдетерминизма в такой области, как психология, и находит, что теория Adler'a шире и глубже, так как Adler применяет анализ там, где анализ Freud'a кончается (сексуальность), и находит, таким образом, обстоятельство (повышение чувства личности, властолюбие), исходя из которого он дает свои хорошо мотивированные объяснения различных психических феноменов. Теория Adler'a не нуждается в подсобных конструкциях Freud'a, которые только сбивают с толку. Д-р Adler – ложное положение Freud'a таково: у всех невротиков находят ненормальную сексуальную жизнь. Но эта ненормальность не есть, как это думает Freud, причина появившихся нервных явлений, она – симптом, как все другие нервные симптомы. Но, принимая это, нужно также отрицательно отнестись к прирожденному субстрату, к сексуальной конституции Freud'a.
Заседание 26 сентября 1912 г.
Н. Grossmann читает реферат «Клинические наблюдения о ложных самообвинениях при истерическом умопомешательстве», о «Безумии в неврозе и психозе». Grossmann пытается перевести индивидуально-психологическое воззрение в социально-психологическую область. Нервный характер нашего времени основан на противоречии между желаниями и удовлетворением этих желаний. Есть 2 типа, которые не соответствуют нормальному типу: один – переходная форма, другой – исчезающая.
В обоих лежит зародыш невроза. Мы обозначаем всех невротиков малоценными, но в этом обозначении не заключается оценка, а констатируется биологический факт. Переходная форма влечет к себе нормальный тип до тех пор, пока получится другая ступень. Понятие нормального типа относительно невроза меняется, таким образом, также. Это указание практически важно в криминальной психологии. Grossmann находит во всех проявлениях психического заболевания манию величия и считает это положение клинически экспериментально доказанным.
Дискуссии. Д-р Furtmuller находит, что типы (исчезающий и переходной) психологически одинаковы. Что же касается того, что психиатрическая школа считает критерием нормального человека «полное социальное применение к среде», то такого вообще никогда не бывает.
Д-р Adler: В приведенном Grossmann'oM примере о самообвинении видны, с одной стороны, суррогат вместо совершенного дела (убийство), с другой стороны, отстранение себя от этого дела в самообвинении. Это последнее – как средство возвыситься путем самоуничижения. Это как бы мужской протест с женскими средствами.
Wexberg замечает, что в самообвинении видна также суть фикции, когда пациент действует так, как будто он совершил преступление и теперь хочет покаяться (как в детских играх).
Заседание 10 октября 1912 г.
Erwin Wexberg «К психологии страха». Каждый аффект распадается на стадию готовности (настроение) и на стадию психофизического возбуждения. Но есть настроение без последующего возбуждения и возбуждение без предшествовавшей готовности. Действительный страх соответствует первой стадии. Уже у младенца при страхе перед неизвестным играет роль фикция. Но она поправима опытом. И только когда фикция в позднейшем детском возрасте получает особое значение, тогда появляется вторичный (нервозный) страх. Этот страх уже не поправим опытом, потому что цель фикции – заслонить реальность. Ребенок, боясь, указывает на свою слабость и беспомощность, чтобы себя предохранить и заставить взрослых заботиться о себе. Детская душевная жизнь построена на фикции. Поэтому дети боятся больше взрослых. Ужас, испытываемый при рассказах или в театре, потому так же интенсивен, как и ужас в жизни, что как тот, так и другой основаны на фикции.
Дискуссии. Д-р Adler: Страх проявляется, когда чувству личности индивидуума грозит понижение. В страхе есть два элемента: 1) картина на разрушение и 2) попытка поднять униженный уровень личности, что указывает на агрессивность. В аффекте видны следы личности. Страх – символ системы, modus vivendi, пациент чувствует себя в роли женщины, так что в страхе получается психический гермафродитизм. Часто страх является целесообразным выражением движения, так как заставляет окружающих заниматься пациентом.
Д-р Furtmuller находит, что нужно различать между примитивным страхом и повторением страха. Ребенок должен пережить страх, чтобы его применять в известных случаях. Также нужно заметить, что ребенок хорошо различает границы между реальным и фантастическим.
Hautler сообщает, что китайцы провоцируют искусственное чувство страха, чтобы потом его побороть. Причину страха он видит в передвижении пропорций между интеллектом и волей. Обморок – иллюстрация полного упадка воли.
Заседания 14 и 21 ноября 1912 г.
Д-р Adler читает реферат о «Гомосексуальности и неврозе». Реферат появится в «книжках» ферейна.
Дискуссии. Kaus находит, что из того, что известно о жизни Варлена, видно, что его гомосексуальность развилась на почве «страха перед женщиной».
Д-р Furtmuller: Реферат Adler'a может иметь громадное значение для уяснения сущности психологического анализа вследствие его ясности. Freud устанавливает существование противоречий, Bleuler указывает на возможность двойственности одного феномена, Adler идет дальше, доказывая, как пациент из своего внутреннего развития пользуется как бы разнородными путями для достижения одной и той же цели.
Д-р Oppenheim: С воззрениями Adler'a совпадает также то обстоятельство, что Платон, первый защитник гомосексуальности, был в то же время поборником женской эмансипации. В древнем искусстве воспроизводили женскую красоту с мужскими чертами (длинные ноги Афродиты), мужскую красоту – с женскими.
Д-р Gruner: Adler'y удалось доказать, как agens, при всех проявлениях психики «мужской протест», далее Adler указал, что те же руководящие линии видны и в неврозе, и в гомосексуальности. Но наука должна еще ответить на вопрос о специфическом источнике гомосексуальности. Но если ответить на этот вопрос, то нужно в то же время дать ответ на то, каковы источники гетеросексуальности. По Adler'y, нужно принять, что в основе как первого, так и второго лежит одно общее. Freud называет это «любовь к объекту».
Заседание 28 ноября 1912 г.
Kaus читает реферат «Невротические линии жизни в индивидуальном феномене» (Реферат напечатан в январской книжке «Zeitschrift f. Psychoanalyse», 1913).
Далее ведутся дискуссии, неоконченные на прошлом заседании, о реферате Adler'a.
Д-р Steckel (гость) заявляет, что ему доставило большое удовлетворение после несущественных дебатов о сущности невроза, которые он должен был выслушивать в ферейне Freud'a, встретить здесь такую содержательную и осмысленную работу. Объяснение Freud'a гомосексуальности из инцест-комплекса он больше не может разделять. Стремление невротика «вверх», к подобию Бога, он тоже нашел, но в форме желания приобрести себе место на небе, чтобы компенсировать свое чувство виновности. «Боязнь перед женщиной» вытекает из того же источника и переходит в аскетизм или идет по противоестественному пути.
Д-р Furtmuller: утверждение Steckel'H, что каждый невротик хочет приобрести себе место на небе, преувеличенно, и есть только специализация основных воззрений Adler'a, и только тогда имеет значение для невротика, когда он хочет таким образом продлить свое влияние и после смерти.
Д-р Steckel остается при своем мнении. Невротик всегда религиозен. Набожность рационализируется, религиозный же символизм выражается в снах.
Д-р Oppenheim: Albrecht Dieterich в своем труде «Язык образов религии» исходит из той мысли, что человечество стремится как можно теснее и глубже соединиться с божеством. Душа всегда остается «женской» против Божества. У христианства в употреблении слово anima, у римлян – animus.
Wexberg находит, что чувство виновности эквивалентно чувству страха в религии.
Заседание 5 декабря 1912 г.
По предложению д-ра Adler'a и после реферата д-ра Furtmuller'a собрание решает единогласно присоединение ферейна к «Обществу Канта».
После голосования Grossmann читает реферат «О болезненных инстинктивных действиях». Реферат напечатан в «Oesterreichische Aerztezeitung».
Заседание 2 января 1913 г.
Furtmuller читает реферат «О психологии Паскаля».
Реферат появится полностью в книжках ферейна.
Дискуссии. Schrecker находит, что религиозность Паскаля была очень поверхностная, он вращался в софизмах о «Правде христианства». Wexberg указывает на сходство между Паскалем и Стриндбергом. Стриндберг был агрессивнее. У Паскаля видна руководящая линия: «хотеть все лучше знать, чем другие». Г-жа д-р Furtmuller находит, что Паскаль служит, как и Толстой, примером плохо разрешенного конфликта между светской жизнью и религиозной руководящей линией. В заключительном слове Furtmuller говорит, что в играх Паскаля видна тенденция оберегания (Sicherungstendenz), которая приводит его к теориям вероятности.
Раиса Адлер (Вена)
Приведенные выше сообщения Р. Адлер о заседаниях «Ферейна свободного психоаналитического исследования» могут быть рассмотрены как дополнительные и весьма полезные материалы, способствующие лучшему пониманию истории становления и развития индивидуальной психологии. Они позволяют, на мой взгляд, сделать следующие выводы: По мере отмежевания А. Адлера от 3. Фрейда адлеровские концепции начинают приобретать известность не только в венских научных кругах, но и среди зарубежных психиатров и психологов. Во всяком случае уже в 1912 г., как это видно из отчета Адлера о Цюрихском конгрессе, адлеровские идеи получили признание в Швейцарии. К этому следует добавить, что сам факт публикации сообщений Р. Адлер о заседаниях «Ферейна свободного психоаналитического исследования» в российском журнале «Психотерапия» свидетельствует об интересе некоторых русских психиатров к учению Адлера. Более того, можно констатировать, что адлеровские идеи нашли поддержку у части русских ученых. Так, в январе 1912 г. редактор журнала «Психотерапия» Н. А. Вырубов стал членом адлеровского общества. Несколько позднее членом этого общества стал также другой русский психиатр – И. А. Бирштейн. О распространении адлеровских идей в России свидетельствует и тот факт, что начиная с 1912 г. на страницах журнала «Психотерапия» публикуются переводы некоторых статей Адлера, даются рецензии на его основные работы, помещаются материалы, авторы которых с адлеровских позиций исследуют различные психические феномены. Весьма примечательно, что с 1913 г. сам Адлер становится иностранным членом редколлегии этого российского журнала. Таким образом, не будучи оформленным в то направление, которое впоследствии получило название индивидуальной психологии, адле-ровское учение о неврозах вышло в начале XX столетия за рамки «Ферейна свободного психоаналитического исследования», обретя признание среди части ученых и врачей различных стран мира.
Дискуссии, имевшие место в Венском психоаналитическом обществе в январе-феврале 1911 г., нашли свое отражение и в «Ферейне свободного психоаналитического исследования». В центре этих дискуссий по-прежнему остается вопрос о том, можно ли рассматривать адлеровское учение как коренным образом отличающееся от классического психоанализа. Одни члены «Ферейна свободного психоаналитического исследования», включая Furtmuller'a и Wexberg'a, полагали, что различия между теориями Адлера и Фрейда весьма существенны. Другие, в частности Griiner и Levy, считали, что эти различия не столь принципиальны, чтобы противопоставлять психологическое учение Адлера психоанализу Фрейда. В этой полемике следует, пожалуй, обратить внимание на то, что некоторые сторонники Адлера, как, например, Griiner, верно подметили общую для Адлера и Фрейда методологическую установку, сводящуюся к рассмотрению детерминирующего влияния влечений на протекание психических процессов.
Кстати сказать, при всем своем негативном отношении к адлеровским идеям того периода Фрейд, тем не менее, признавал, что, в отличие от аналитической психологии К. Г. Юнга, учение Адлера не порывает с классическим психоанализом, поскольку, по его собственному выражению, «оно все еще основано на учении о влечениях» (Фрейд, 1919, с. 45). Поэтому отнюдь не случайно, что даже Wexberg, выступавший, согласно Р. Адлер, против утверждения Gruner'a о несомненных сходствах между адлеровскими и фрейдовскими теориями, был вынужден, в конечном счете, во-первых, признать определенную общность в «исходном пункте» обоих учений и, во-вторых, сделать вывод о том, что «теории Freud'a и Adler'a являются необходимыми взаимными коррелятами» (Wexberg, 1912, с. 51).
В 1914 г. Фрейд подверг резкой критике тех, кому, по его выражению, «оказалось неуютно в преисподней психоанализа» (Фрейд, 1919, с. 51). Речь шла об Адлере и Юнге. Однако, как это вытекает из сообщений Р. Адлер о заседаниях «Ферейна свободного психоаналитического исследования», пребывание в «преисподней психоанализа» оказалось неуютным и для В. Штекеля, который нашел в адлеровской группе творческую атмосферу, не отягощенную догматическими установками, характерными для многих членов Венского психоаналитического общества. Надо сказать, что в то время, когда Штекель присутствовал на одном из описанных Р. Адлер заседаний «Ферейна свободного психоаналитического исследования», у него сложились отличные от Фрейда представления о причинах возникновения неврозов (Stekel, 1912). В тот период Штекель еще не порвал окончательно с Фрейдом, как это сделал Адлер. Но он с интересом и пониманием отнесся к адлеровским идеям, считая их весьма ценными и полезными для объяснения неврозов. «Изучая тайную структуру невроза, – писал он, – нельзя не согласиться с Adler'oM, который говорит о фиктивной руководящей цели и определенной руководяще линии, которые дают больному определенное направление жизни» (Stekel, 1914). Таким образом, отношение Штекеля к адлеровским концепциям также может служить показателем идейной переориентации части психоаналитиков, ранее безоговорочно уповавших на психоанализ Фрейда.
Материалы заседаний «Ферейна свободного психоаналитического исследования» позволяют говорить о том, что к 1912 г. были сформулированы многие основополагающие положения адлеровского психологического учения о неврозах. Действительно, как в рефератах, зачитываемых на заседаниях адлеровской группы, так и в процессе последующих дискуссий наблюдается постоянное обращение членов этого ферейна к идеям о «мужском протесте», «фикциях», «цели жизни», «руководящей линии», которые в той или иной форме органически вписались в последующие концептуальные построения индивидуальной психологии.
На заседаниях «Ферейна свободного психоаналитического исследования» обсуждались не только психологические и психиатрические вопросы, но и проблемы философского характера. Разумеется, дело не в том, что многие члены адлеровской группы обращались к философским идеям Платона и Паскаля, как это видно из сообщений Р. Адлер, или к работам Файхингера и Бергсона, о чем свидетельствует, в частности, доклад Адлера на Цюрихском конгрессе (Adler, 1913, р. 69). Более важно другое, а именно то, что адлеровские концепции «руководящей линии», «цели жизни», «фикционалистской телеологии» самым тесным образом были связаны с философским осмыслением человека. Не случайно уже в то время некоторые теоретики расценивали отдельные адлеровские концепции как явно философские. Так, например, в одном из номеров журнала «Психотерапия» Ю. Каннабих писал по этому поводу буквально следующее: «Об Adler’овской „теории руководящей линии“ было сказано, что это – не психология, а философия. И это правильно. Учение Adler'a может быть названо Philosophic des ich. С помощью критической телеологии Adler дает нам в руки средство к систематическому, а следовательно, научному пониманию души человека» (Психотерапия, 1914, с. 183).
Представляется необоснованной точка зрения, согласно которой рождение «Общества индивидуальной психологии» датируется 1912 г. (Orgler, 1950, p. 26). Более правильным следует признать мнение исследователей, считающих, что изменение названия адлеровской группы произошло в 1913 г. (Adler, 1979, р. 364). Другое дело, что термин «индивидуальная психология» действительно был введен в 1912 г.: он содержался в подзаголовке опубликованной Адлером работы «?ber den nerv?sen Character». Однако изменение названия адлеровского общества имело место позднее. Во всяком случае, представленные Р. Адлер материалы свидетельствуют о том, что в январе 1913 г. адлеровская группа все еще называлась «Ферейном свободного психоаналитического исследования».
Литература
Психотерапия. 1914. № 3.
Фрейд 3. Очерк истории психоанализа. Одесса, 1919.
Adler А. Органический субстрат психоневроза//Психотерапия. 1913. № 1.
Adler A. Superiority and Social Interest / Ed. by H. Ansbacher, R. Ansbacher. N. Y., 1979.
Orgler H. Alfred Adler: The Man and His Work. N. Y., 1950.
Stekel W. Причина нервности. Новые взгляды на ее возникновение и предупреждение. М., 1912.
Stekel W. Исходя психоаналитического лечения // Психотерапия. 1914. № 2.
WexbergE. Две психоаналитические теории. М., 1912.
1979
Из истории психоаналитического движения
История психоаналитического движения привлекает к себе внимание многих западных ученых. За последнее время опубликованы десятки книг и сотни статей, посвященных раскрытию различных психоаналитических концепций, исследованию истоков становления и путей развития психоанализа. Подробно освещаются взгляды 3. Фрейда и К. Г. Юнга на человека и культуру, исследуются методологические установки, исходные постулаты и терапевтические приемы классического психоанализа и аналитической психологии, а также конечные выводы и результаты, вытекающие из этих учений и клинической практики. Рассматриваются теоретические положения индивидуальной психологии А. Адлера, гуманистического психоанализа Э. Фромма. Все чаще появляются публикации, раскрывающие содержание психоаналитических теорий В. Райха. Имеются исследования, авторы которых обращаются к идейному наследию К. Хорни, хотя, как это и ни странно на первый взгляд, ее психоаналитические концепции рассматриваются крайне редко, по сравнению с идеями М. Кляйн, Д. Винникотта, У. Биона. Вместе с тем некоторые зарубежные ученые признают важный вклад, внесенный К. Хорни в развитие теории и практики психоанализа.
Среди публикаций, относящихся к данной тематике, обращают на себя внимание книга профессора клинической психиатрии Нью-Йоркского медицинского колледжа Джека Рубинса «Карен Хорни. Тихий бунтарь в психоанализе» (Rubins, 1977) и работа американского психолога и историка науки Фрэнка Салловея «Фрейд: биолог духа. По ту сторону психоаналитической легенды» (Sullow, 1979).
Первая книга посвящена рассмотрению жизненного пути К. Хорни (1885–1952) и может быть расценена как попытка привлечь внимание ученых и клиницистов к теоретическим идеям и концепциям одной из представительниц психоаналитического движения, построившей, по словам Дж. Рубинса, мост между «психобиологическим человеком» фрейдовской психологии и «социокультурным человеком» психологической мысли наших дней.
Вторая работа, являющаяся, по сути дела, «интеллектуальной биографией» 3. Фрейда (1856–1939), представляет собой «новую историческую интерпретацию» теоретической и практической деятельности основоположника психоанализа, проливающую свет, согласно Ф. Салловею, на подлинное понимание Фрейда как личности и адекватное толкование истории возникновения психоанализа.
Дж. Рубине сетует на то, что имя К. Хорни стало исчезать из зарубежной литературы, имеющей дело с освещением истории психоаналитического движения, а ее концепции далеко не всегда адекватно истолковываются современными психологами, психоаналитиками и психиатрами. Такое «забвение» идейного наследия Хорни можно объяснить, по мнению автора, несколькими причинами: во-первых, негативным отношением «ортодоксальных психоаналитиков» к ее нововведениям в психоаналитическую теорию и практику; во-вторых, непониманием истинного содержания ее учения о человеке и неврозах; в-третьих, трудностью исследования ее как личности, поскольку Хорни, по свидетельству очевидцев, редко высказывалась по поводу своих индивидуально-личностных переживаний и оставила мало документов, позволяющих составить адекватное представление о ее жизни.
Поэтому основная цель книги Дж. Рубинса состоит в том, чтобы «исправить историческую летопись» о роли Хорни в развитии психоанализа и устранить разрыв между личностью и теоретическими идеями этой представительницы психоаналитического движения. Автор предпринимает попытку освещения эволюции взглядов Хорни в контексте ее семейного окружения и интеллектуальной обстановки. И хотя исследование Дж. Рубинса не является обстоятельным анализом психоаналитических теорий Хорни, а представляет собой, скорее, обобщенное изложение содержания ее основных статей и книг, рассмотренных с точки зрения формирования Хорни как личности, тем не менее работа дает представление как о ее теориях, так и о развитии психоанализа в целом.
В книге последовательно рассматривается жизненный путь Хорни. Описывается ее детство, студенческие годы, замужество и первые научные исследования, приведшие к психоанализу. Раскрывается деятельность Хорни в Берлинской психоаналитической группе, возглавляемой К. Абрахамом, и в Берлинском психоаналитическом институте. Показывается ее участие в Международных психоаналитических конгрессах и установление контактов с ведущими психоаналитиками 20-30-х годов XX столетия. Рассматриваются причины переезда Хорни в США в 1932 г., ее работа в Чикагском институте психоанализа и деятельность в Нью-Йоркском психоаналитическом обществе. Дается характеристика интеллектуального климата в новой ассоциации американских психоаналитиков, куда вошла Хорни в начале 40-х годов. Описываются последние годы ее жизни. На фоне освещения жизненного пути Хорни излагаются ее основные психоаналитические идеи, начиная от первых интерпретаций сновидений и трактовки бессознательных мотивов поведения человека, представленных ею перед членами немецкого медицинского общества сексологов в 1917 г., и кончая критикой ряда теоретических положений психоаналитического учения Фрейда и выдвижением собственных идей о внутриличностных конфликтах, базальной тревожности, идеализированном Я, самореализации сущностных сил человека, тех идей, которые содержатся в таких ее опубликованных работах, как «Невротическая личность нашего времени» (1937), «Новые пути в психоанализа» (1939), «Самоанализ» (1942), «Наши внутренние конфликты» (1945), «Неврозы и развитие человека» (1950).
Автор второй книги считает, что в настоящее время в науке существует множество мифов об основателе психоанализа, которые не соответствуют подлинной концептуальной истории возникновения и развития психоаналитических идей. Оказав значительное влияние на мышление людей в XX столетии, Фрейд вместе с тем остается, по мнению Ф. Салловея, одним из наименее понятых теоретиков в истории науки. Замысел автора книги как раз и сводится к тому, чтобы раскрыть истинное содержание и значение концептуальных истоков психоанализа, пролить свет на научную карьеру Фрейда, критически осмыслить исторические сценарии, разработанные психоаналитиками для оправдания и поддержания психоаналитической легенды, развенчать существующие мифы о Фрейде как героической личности и ученом, создавшем новое психологическое направление, основанное на фактах клинических наблюдений.
Отстаиваемый на протяжении 600-страничного биографического исследования центральный тезис сводится к тому, что, несмотря на эволюцию теоретических представлений о человеке, основатель психоаналитического учения всегда оставался «скрытым биологом», а психоанализ является не чем иным, как «скрытой биологией», и, следовательно, тот, кто стремится понять существо психоаналитических идей, должен постоянно помнить о «скрытых биологических корнях» фрейдовских психоаналитических концепций.
Рассмотренная в более широком плане, с точки зрения соответствующего вклада в историю науки, книга Ф. Салловея представляет собой историческое исследование того, как и почему в сфере науки возникают различные мифы, основанные на активной реконструкции прошлого самими учеными. Одна из целей книги – на примере изучения жизни Фрейда раскрыть причины возникновения научных мифов, уяснить природу искажений в истории возникновения и развития «великих интеллектуальных движений», понять, почему «история интеллектуальной революции» часто оказывается историей сознательных или бессознательных попыток ее участников скрыть подлинные истоки их деятельности.
На фактическом материале в книге раскрывается предыстория возникновения психоанализа, прослеживаются научные контакты и разногласия между основателем психоанализа и Й. Брейером, В. Флиссом и другими исследователями и врачами, первоначально дружившими с Фрейдом, но позднее порвавшими с ним. Подробно анализируются работы Фрейда, начиная с ранних статей о кокаине и истерии, «Проекта научной психологии»(1895) и кончая его поздними трудами, написанными и опубликованными в период с 1900 по 1939 г. В контексте фрейдовских работ рассматриваются различные психоаналитические концепции, генезис их возникновения и влияния на становление международного психоаналитического движения. В процессе раскрытия «интеллектуальной биографии» Фрейда показывается суть созданных психоаналитиками мифов и подлинная история психоанализа, ничего общего не имеющая, по убеждению Ф. Салливея, с широко распространенной в научном мире психоаналитической легендой о Фрейде и его учении.
Обе работы содержат биографические подробности, способствующие воссозданию портретов Фрейда и Хорни. В обеих приводится богатый фактический материал, позволяющий лучше понять циркуляцию научных идей, давших толчок к появлению и развитию психоанализа. Оба автора рассматривают широкий круг проблем, связанных с изложением психоаналитических учений Фрейда и Хорни.
Из всего многообразия, представленного в данных книгах материалов, сосредоточу внимание лишь на некоторых из них, представляющих, на мой взгляд, наибольший интерес с точки зрения понимания истоков возникновения психоаналитических идей и становления психоаналитического движения. Речь идет прежде всего о рассмотрении того идейного влияния, которое оказали на Фрейда и Хорни различные теоретики, о раскрытии содержания и специфики некоторых психоаналитических концепций, как они представлены в работах Ф. Салловея и Дж. Рубинса.
На протяжении своего исследования Ф. Салловей стремится показать, кто из физиологов, биологов, неврологов, сексологов и психологов оказал наибольшее влияние на формирование психоаналитических концепций Фрейда. Раскрывая этот пласт исторического знания, автор подробно рассматривает идеи Й. Брейера и В. Флисса, которые, как он считает, были не только усвоены, но и в дальнейшем развиты основоположником психоанализа. Фрейд находился также под влиянием сексологических идей А. Молля и Р. Краффта-Эбинга, чьи работы по сексуальной патологии были ему хорошо известны: в 1897 г. он не только читал опубликованную в то время работу А. Молля о либидо и психосексуальных законах, но и сделал несколько пометок на ее полях, а также имел у себя книги с Р. Краффт-Эбинга с его автографом (Sullow, 1979, р. 277, 301,313). Кроме того, на мышление Фрейда существенное влияние оказали идеи Э. Брюкке, Г. Гельмгольца, К. Клауса, Г. Фехнера, Дж. Гербарта, Ч. Дарвина. Последний, как подчеркивает Ф. Салловей, более чем кто-либо другой из ученых «подготовил почву для Зигмунда Фрейда и психоаналитической революции» (там же, с. 238).