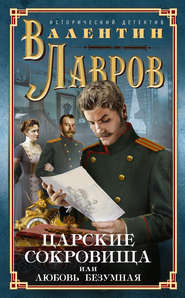скачать книгу бесплатно
После трех часов ожидания подходит секретарь и торжественно возглашает:
– Гражданин Джунковский, вас приглашает следственная комиссия.
Ничтожества в мантиях
В просторном, с высоченными потолками зале – длиннющий стол, покрытый зеленым сукном. За столом большинство знакомых физиономий. Председатель – балагур и картежник с сытым веселым лицом присяжный поверенный Муравьев, слева – всегда отличавшийся бестолковостью сенатор Коцебу, справа – бывший прокурор Петербургской судебной палаты, страдавший запоями Завадский, главный военный прокурор Апушкин, специалист по буддизму и фольклору академик Ольденбург и прочие, менее значительные деятели.
Джунковский стоит перед этими людишками и по привычке мечтает: «Хорошо бы вас, гладкомордых, в атаку послать! То-то со страху в порты наваляли бы, вонь до Петербурга дошла бы. А сейчас с умным видом вопросы станут задавать».
Несколькими минутами прежде, попивая кофе в комнате отдыха судей, председательствующий Муравьев весело рассказывал Завадскому, как вчера на Лиговке князь Вихров навестил известную актрису Цветкову. В разгар свидания вернулся муж, цирковой атлет Валентин Силаев, сграбастал князя и голым вышвырнул в окно со второго этажа. Князь на время укрылся в комнатушке дворника, прежде чем ему принесли одежду. Десятки прохожих видели князя голым, и эта история уже попала в газеты.
Завадский знал эту историю, но приличия ради выслушал ее, взглянул на брегет и произнес:
– Николай Константинович! Пора начинать.
Муравьев, словно актер перед выходом на сцену, в момент изменил выражение лица, напустил на себя серьезную мину, поправил на сальной переносице золотое пенсне, перед зеркалом вспушил душистые баки и распорядился:
– Господа судьи, все готовы? Выходим!
Муравьев, в бытность Джунковского губернатором Москвы, несколько раз обращался за помощью к нему, и Джунковский неизменно бывал любезным, всегда оказывал содействие.
Теперь Муравьев намеренно не желал вспоминать об этом эпизоде их отношений, наоборот, считал признаком порядочности быть с Джунковским очень строгим. Судьи уселись за стол, с любопытством поглядывая на допрашиваемого.
Едва кивнув на приветствие Джунковского, Муравьев сытым голосом, вальяжно развалясь в кресле, спросил:
– Гражданин Джунковский, вы предупреждаетесь, что за дачу ложных показаний несете уголовную ответственность согласно соответствующим статьям Уголовно-процессуального кодекса Российской империи. Переходим к существу дела. В феврале пятнадцатого года вы приняли должность товарища министра внутренних дел. Так?
Джунковский старался быть серьезным и уважительным, но ему мешала мысль, что весь этот допрос – насмешка и все это какая-то детская игра взрослых холеных мужиков, создающих видимость чего-то очень важного, чем они занимаются. И невольно он говорил тем тоном, каким терпеливые няни объясняют прописные истины своим малолетним глуповатым подопечным.
– Я вступил в должность пятого февраля тринадцатого года и сдал ее шестнадцатого августа 1915 года.
– Владимир Федорович, скажите откровенно: какие изъяны вы нашли в Департаменте полиции? Нас особенно интересует политический розыск. Хотелось бы, чтобы вы осветили вопросы секретного сотрудничества. Это правда, что на жалованье полиции состояли лица, бывшие членами революционных организаций?
– Первым делом я занялся корпусом жандармов, я желал сделать из него боевую единицу на железнодорожном транспорте, ибо железные дороги играют важную стратегическую роль. Другое важнейшее дело – агентура в войсках. Иметь агентов-солдат – это разврат и развал всей армии.
Джунковский рассказывал интересные вещи. Следователи слушали с любопытством. Муравьев задумчиво жевал бороду, и на его румяном лице было написано: «Вот как я тебя! Все изменилось под нашим зодиаком, эка я тебя поставил…» Неотрывно глядя в рот Джунковского, застыл сидевший за отдельным столиком поэт Блок.
Когда Джунковский закончил, Муравьев глянул в бумагу, подготовленную для него секретарем, многозначительно спросил:
– Очень хорошо – военная агентура. Мы к ней, знаете ли, вернемся. Теперь не припомните ли что-нибудь об агентуре в средних учебных заведениях? Вам ведь есть что сказать?
Джунковский на некоторое время задумался, потом, подбирая слова, неспешно произнес:
– Однажды потребовались имена сотрудников по какому-то делу, и я вдруг увидал: гимназист седьмого класса, шестого… Меня это возмутило. Я приказал: «Впредь ни один учащийся в агентуре не должен числиться!»
– Очень интересно. – Муравьев постукивал тупым концом карандаша о крышку стола. – Расскажите о каких-либо, так сказать, конкретных фактах… Ставили, скажем, тайную типографию?
– Да, была такая мода – силами полиции открывать для революционеров типографию, а потом ее накрывали и получали за это ордена. Провокация – дело недопустимое.
– А конкретно все-таки что-нибудь…
– Ну, когда я был еще губернатором, с провокационной целью устроили побег тринадцати заключенным женщинам, замешанным в терроре, а потом ни одну не сумели поймать. Я приказал наказать виновных, но провокации изжить никогда полностью не удавалось. Впрочем, то, что я вам говорю, это прописные истины, они известны любому сотруднику охранки, незачем меня было вызывать с передовой позиции.
Козлобородый заикающийся Коцебу строго прикрикнул:
– Н-нам указывать н-не надо!
Муравьев согласно встряхнул кудрями:
– Да, Владимир Федорович, вы, так сказать, отвечайте только на вопросы. Пока что мы вас допрашиваем, а не вы, так сказать, нас…
Джунковский усмехнулся.
* * *
Допрос продолжался еще часа три.
Муравьев вспомнил, что сегодня он идет в гости к отцу жены, а времени уже четвертый час и надо допросить еще нескольких из тех, кто вызван и ждет в приемной. Он заторопился, задал несколько пустяковых вопросов и решил: «Надо его и завтра вызвать! А то начнет звенеть, дескать, из-за ерунды с линии фронта командировали! Архив охранки у нас в руках, скажу секретарю, он вопросов подготовит вагон и маленькую тележку!»
Звякнул в настольный кнопочный колокольчик, обращая внимание коллег, сидевших за столом:
– Владимир Федорович, на сегодня хватит! Допрос продолжим завтра. Ровно в десять ноль-ноль ждем, так сказать.
Джунковский удивился:
– Но мне на фронт надо быстрей возвращаться! Я все разъяснил…
Муравьев, желая досадить бывшему губернатору и показать, кто есть власть, добавил:
– Позвольте, сударь, мне знать, «все» или «не все», – и, словно злая сила в ребро толкнула, неожиданно для себя строго произнес: – Мы, так сказать, и завтра не успеем закончить. Как минимум три дня будем работать, ведь у нас и другие подследственные есть…
* * *
Два следующих дня были похожи на первый. Муравьев, а порой и члены следственной комиссии задавали какие-то вопросы, Джунковский кратко, но вразумительно отвечал.
Интересовало следователей все на свете, ибо их целью было найти хоть какое-нибудь слабое звено в деятельности Джунковского. Собственно, ради этого его и вызвали с фронта. Вновь говорили о провокации, о причинах разногласий Джунковского с директором Департамента полиции Белецким.
Чуть не час давал объяснения по поводу ближайшего сподвижника Ульянова-Ленина – провокатора-большевика Малиновского, которого полиция протащила в Госдуму.
– Я в принципе был против этой акции, а провокатора провели тайком от меня, – объяснил Джунковский. – И всегда считал, что нельзя оказывать давление на избирателей при выборах в Государственную думу.
Муравьев с нажимом, словно схватил за руку преступника, гневно воскликнул:
– А вы, как московский губернатор, не знали, что большевик Малиновский три раза судился, так сказать, за кражи со взломом? Это был обыкновенный уголовник, и по закону он не имел права быть избранным!
– Я все это узнал лишь потом, позже.
На третий день расспрашивали о секретном фонде полиции, к которому Джунковский не имел отношения и которым никогда не пользовался. Затем речь зашла о Распутине, с которым у Джунковского если и были отношения, то самые неприязненные.
Наконец, председательствующий вытер пот со лба и покрутил головой:
– Мы, так сказать, хорошо поработали. У господ членов комиссии нет вопросов? Вы, Владимир Федорович, свободны. Объявляю перерыв на обед.
Поэтическое прозрение
Джунковский облегченно вздохнул и направился к выходу. В приемной его догнал поэт Блок. Он как-то странно, сбоку, взглянул на генерала и глухим, едва слышным голосом, словно стесняясь, прошептал:
– Александр Федорович Керенский, зная о вашем допросе, просил меня передать… приватно, – и протянул пакет. – Завтра в одиннадцать утра ждет вас у себя, в Морском министерстве.
– А почему приватно?
Блок потупил красивые оленьи глаза:
– Понятия не имею. Сейчас вообще многое делается секретно.
– Большое спасибо, Александр, простите, запамятовал отчество!
– Александрович! – подсказал Блок. Он шел рядом, словно желая продлить беседу.
Джунковский приличия ради спросил:
– Как нынче, стихи пишутся?
Блок взглянул на Джунковского безумным взглядом. Лицо его было измучено, оно выдало душевные страдания.
– Какие стихи? Все погибло, впереди апокалипсис, конец света…
Джунковский возразил:
– Не надо поддаваться унынию, Александр Александрович! Вы знамениты, талантливы, вам надо творить…
Блока словно прорвало. Он заговорил как-то спутанно, отрывисто:
– Ах, зачем творить! Наша интеллигенция уже столько сделала дурного, что на двадцать поколений хватит, не расхлебать. Все требовали революцию, свержения… Ну, свергли… Еще хуже сделалось, совсем плохо. Война вот… Скажите, правда (мне Горький передавал, сам слыхал как верное от фронтовика): в сырых окопах офицеры используют солдат вместо матраса: укладывают их в жижу, а сами ложатся сверху, чтобы комфортней было? А, неужели правда? Ведь это бесчеловечно, солдат тоже душу имеет.
– А вы сами в это верите?
– В наши дни девальвации моральных ценностей и оголенной беспринципности все возможно.
– Горький сказал вам чушь, этого не бывает. Лживые слухи распространяют большевики и газетчики, оплаченные кайзером. Поверьте мне, Александр Александрович, такого офицера тут же отдали бы под военный трибунал. Нынче беда в ином: солдаты выходят из повиновения, сплошь и рядом не желают подчиняться приказам офицеров, бегут с фронтов.
Блок, кажется, не слушал, угрюмо глядел куда-то в паркет. Вдруг он резко поднял глаза, и зрачки у него болезненно расширились.
– А как теперь, после этой ужасной войны, быть с человечеством? Ведь оно больно, и больно неизлечимо. Для чего Эвересты трупов, горькие океаны крови? Кому это надо? И вы, ваше превосходительство, принимаете участие в этом всемирном преступлении. Нет, я вас, Владимир Федорович, не осуждаю, я не имею права на такую роскошь – на осуждение. Но я спрашиваю: кому это безумие надо? Вот вы – военный начальник, а этого не знаете. И государь Николай Александрович не знал. И Керенский подавно ничего не понимает. А я поэт и потому правду прозреваю.
– И в чем она, ваша правда?
– А в том, что человечество давно сошло с ума. Ведь отдельные люди лишаются разума, вы не станете возражать?
– Нет, не стану.
– Так и вся многомиллионная масса свихнулась, и поступки ее необъяснимо дики, неразумны. Но если индивидуума можно посадить в психиатрическую клинику, то как человечество упрятать в палату номер шесть? Впрочем, сейчас меня, кажется, осенило. – Блок упер в Джунковского остановившийся взгляд, поднял брови и заговорил, словно в бреду: – Человечество уже живет в психиатрической лечебнице. Эта лечебница – весь земной шар. – Он руками изобразил круг и лихорадочно закончил речь: – Только человечество никто не лечит, ему не делают уколов, и потому оно болеет, болеет… Потом снова будет война, еще более страшная. И еще, и еще – без конца! Это ужасно, это сознавать невозможно, грудь давит… – И Блок пошел прочь какой-то нерешительной шата ющейся походкой, не оглядываясь и что-то бормоча себе под нос.
Джунковскому стало не по себе. Он лишь мысленно повторил: «Человечество сошло с ума». Но было ли оно когда-нибудь нормальным?
…Вернувшись домой, поэт Блок занес в записную книжку свое впечатление о «красавце генерале» Джунковском: «Говорит мерно, тихо, умно… Лицо значительное. Честное. Глаза прямые, голубовато-серые. Очень характерная печать военного… Прекрасный русский говор».
Хвостатый друг
Возвращался с войны и граф Соколов. Возвращался, выполнив приказ государя, которого теперь унизительно называли «бывшим». Граф совершил беспримерный подвиг – пустил на дно кровавую германскую субмарину «Стальная акула»[1 - Об этом читайте в книге «Агент S-25, или Обреченная любовь».].
Случилось это в апреле семнадцатого, но газетчики, увлеченные описанием крушения империи и демонстраций под демократическими лозунгами, этого подвига почти не заметили.
Да и кому он был нужен, подвиг?
Армия распадалась, разлагалась, лишь кое-где, в отдельных дивизиях и корпусах, еще поддерживалась железной волей и авторитетом командиров. Старая государственная машина с ее аппаратом развалилась, а новая создана не была.
Герои теперь были не нужны. Теперь все бежали с фронтов и нужны были железнодорожные эшелоны и крошечное свободное местечко на полу, хоть возле туалета, хоть на крыше.
Путь гения сыска домой оказался долгим, полным опасных приключений.
Наконец, в начале июня граф прибыл в Северную столицу. Он еще не ведал, что именно в эти дни он сделает первый шаг к самому опасному и, увы, последнему подвигу своей бурной и вполне героической жизни.
* * *
Евдокия Федоровна Джунковская, фрейлина императрицы Марии Федоровны, среди множества общественных должностей, была еще председателем общины Святой Евгении. Община эта служила поддержкой сестрам Красного Креста и возникла в начале восьмидесятых годов. Силу община набрала лишь при деятельной и умной Евдокии Федоровне. Именно ей пришла мысль печатать открытки с картин выдающихся мастеров – Репина, Бём, Бенуа, Переплетчикова, Маковского и прочих, и общий тираж их превысил тридцать миллионов.
Община по милости государя занимала большой участок на Старорусской улице, по соседству с Невой. Здесь за забором, в густом парке жила фрейлина, а до отъезда на фронт и ее знаменитый брат, не обремененный семьей и имевший в доме кабинет, библиотеку и спальню.
Дом был построен в глубине парка по всем правилам классицизма: с портиком, с изящным фронтоном, мраморными колоннами и широкой лестницей, которая вела к тяжеленным резным дверям из мореного дуба. В мертвенном свете белой ночи это архитектурное величие казалось волшебным призраком.
Шел второй час ночи, и кругом царило безлюдье.
Вдруг некая таинственная фигура в офицерской шинели и с заплечным мешком возникла возле кованых ворот. Высоченного роста человек попытался раздвинуть их, но створы ворот были прочно опутаны толстой цепью и закрыты на тяжеленный замок.
Пришелец побрел вдоль ограды, внимательно приглядываясь к ее толстенным прутьям. Наконец нашел один, слабо укрепленный в цоколе. Оглянулся по сторонам – патрулей не видно. Человек громадными ручищами уцепился за прут, выдрал его из основания, только вывалились кирпичи из цоколя и запахло цементной пылью. Далее человек с непостижимой легкостью загнул прут вверх и протиснул свое громадное тело внутрь, за ограду. Пробираясь по густому, заросшему парку, он осторожным шагом направился к дому.
Вдруг затрещали кусты роз, и оттуда выскочила большая лохматая овчарка. Широкими прыжками она неслась наперерез пришельцу. В сажени от своей жертвы овчарка остановилась, ощерила верхние клыки, глухо зарычала, присела на передние лапы, примеряясь к решительному прыжку, чтобы перегрызть чужаку горло.
Человек сорвал ветку. Внимательно следя за овчаркой, смело пошел на нее, властно приговаривая:
– Цыц, стоять! На место, зверюга сердитая! Я еще свирепей, чем ты. Р-р-р…
Овчарка втянула влажным черным носом воздух и сразу как бы обмякла, сменила злобу на добродушное урчание, завиляла хвостом. Человек улыбнулся:
– Фало, дружок! Никак, это ты, старина? Ну, иди ко мне, Фало, собака ты полицейская, заслуженная. Немало с тобой мы бандитов переловили. – Человек подошел к овчарке, присел, почесал ей за ухом. Собака лизнула руку, сладострастно зажмурила глаза, подняла морду вверх. – Как тебя из Москвы сюда занесло? Ну и встреча. Рада, глупышка? И я рад. Ну все, хватит с тебя, хочу музыку твоих хозяев послушать.
Романс