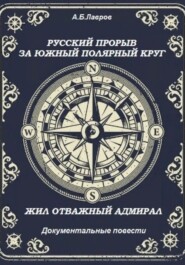скачать книгу бесплатно
«Для незнакомых с Южным Ледовитым морем и вообще для немореплавателей слова «пересекли полярный круг» не имеют значения и, следовательно, не произведут никакого впечатления; но для мореплавателей и в особенности для немногих, переступавших за эту черту, вполне будут понятны одушевлявшие нас тогда чувства».
Это плавание за полярным кругом началось с приключений другого рода, которые, впрочем, нашим морякам были тоже не в новинку, а П.М.Новосильскому, похоже, особенно нравилось делиться с читателями подобными историями:
«14 декабря. Около полудня увидели на одной льдине большого зверя; со шлюпа «Восток» послан был ялик; матросы по льдинам добрались до животного и дали по нём несколько ружейных выстрелов, … добили его вёслами и привезли на «Восток». Убитый зверь принадлежал к породе тюленей, имея в длину 8 футов (почти 2,44 м – А.Л.); шкура на нём была белая….
15 декабря, следуя вдоль ледяного поля, в 8 часов поутру заметили на ледяном мысу большого тюленя. Со шлюпа «Восток» послан был к этому месту на ялике лейтенант Игнатьев; матросы тотчас по льдинам добрались до зверя, и убили его вёслами, но взять с собой не успели, потому что льдины начали расходиться.
Лейтенант Игнатьев привёз на «Восток» необыкновенной величины королевского пингвина, вышиною в 3 фута (91,44 см – А.Л.)… Но всего удивительнее, что в желудке пингвина найдены были маленькие кусочки горного камня. Стало быть, пингвин этот был недавно на неизвестном берегу, потому что самые ближайшие острова удалены от нас более чем на 2000 миль (3706 км – А.Л.)».
Как видим, автор продолжает искать и находить признаки близости судов к какой-то неведомой суше.
Так шли «Восток» и «Мирный» вдоль кромки ледяного поля, то несколько забирая к северу, чтобы обойти непроходимые скопления льдов, то опять поворачивая к югу на более или менее чистой воде, пока 10 (22) января 1821 г не достигли самой южной за все время своих странствий по чужим морям точки – 69°53’ южной широты и 92°19’ западной долготы.
«В это время мы находились в ледяном заливе, которым могли бы пройти ещё мили две (3,7 км – А.Л.) до ледяного берега, – свидетельствует тот же Новосильский, – но северо-восточный ветер дул прямо в залив, и мы принуждены были заблаговременно из него выбраться. Между тем киты пускали фонтаны, над нами летали ласточки и эгмондские курицы; в воде, близ шлюпа, показался однажды какой-то чёрный зверь. Что же всё это значит? Мы смотрели с недоумением друг на друга и ожидали чего-то необыкновенного».
Из этого состояния «предвкушения чего-то» людей на «Мирном» вывел переданный с «Востока» семафор.
На флагмане ещё час назад увидели к востоку-северо-востоку черневшее в тумане пятно: командир, поглядев на него в подзорную трубу, сразу понял, что это такое, но другие офицеры, тоже смотревшие в трубы, не сошлись во мнениях. И всё-таки в без малого 16.00 Беллинсгаузен просигналил Лазареву на «Мирный»: «Вижу землю!».
«Мы подымаем ответ, – продолжает П.М.Новосильский. – «Берег! Берег! – слышится всюду. Нельзя выразить радости, общего восторга. В это время из облаков блеснуло солнце, и лучи его осветили чёрные скалы высокого, занесённого снегом острова».
«Ныне обретённый нами берег подавал надежду, что непременно должны быть ещё другие берега, – поясняет Ф.Ф.Беллинсгаузен, – ибо существование токмо одного в таковом обширном водном пространстве нам казалось невозможно».
В 8 часов вечера землю скрыл сгустившийся туман, и только на другой день в 17.00 удалось подойти к её побережью, но не ближе чем на 26 км: дальше не пускал окружавший остров ледяной барьер. Начальник экспедиции подробно описал последовавшую за этим церемонию:
«Достигнув с шлюпом «Восток» до самых льдов, я привёл на другой галс в дрейф, чтобы дождаться шлюпа «Мирный», который был далеко позади нас. В 6 часов, по приближении «Мирного», мы подняли флаги; господин Лазарев поздравил меня чрез телеграф с обретением острова, и когда подходил под корму шлюпа «Восток», на обеих (так в оригинале – А.Л.) шлюпах поставили людей на ванты и прокричали по 3 раза взаимное «ура!». В сие время телеграфом с «Востока» приказано дать служителям по стакану пунша. Все единогласно провозгласили здравие государя императора. Я позвал к себе господина Лазарева: он сообщил мне, что все оконечности берега видел ясно и хорошо определил положение оных…
Я назвал сей остров высоким именем виновника существования в Российской империи военного флота – остров Петра I».
Рисунок 53. Побережье острова Петра I. Фотография.
Автор: Hannes Grobe. Собственная работа, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3322283
По вычислениям астронома Ивана Михайловича Симонова, координаты острова были: 68°57’ южной широты и 90°46’ западной долготы. Поскольку сплошной лёд мешал не только высадке на берег, но и более тщательному обследованию суши с моря, начальник эскадры отдал приказ немедленно продолжить плавание к востоку параллельно окраине ледяного поля. По его собственным словам, он надеялся, что «может быть сии льды приведут нас к новым обретениям».
Так оно и вышло. Через каких-то 6 дней после отплытия от острова Петра I, 17 (29) января, в 11 часов утра с флагманского шлюпа увидели берег. «Мыс оного, простирающийся к северу, – записал тогда капитан, – оканчивался высокою горою, которая отделена перешейком от других гор, имеющих направление к SW (юго-западу – А.Л.); я известил о сём господина Лазарева.
День был прекрасный, какового только можно ожидать в большой южной широте… Ветр дул тихий от О, нам противный, однако ж мы поворотили на SSO (юг-юго-восток – А.Л.) , ибо сей румб приближал к берегу. В сие время …видели повсюду мелкий сплотившийся лёд, не допускавший до берега на расстояние сорока миль (74,12 км – А.Л.).... Простирая плавания в южных широтах для исполнения воли государя императора, я почёл обязанностью назвать обретённый нами берег берегом Александра I, яко виновника сего обретения».
Нечастые в тех местах ясная погода и совершено безоблачное небо дали возможность неплохо рассмотреть найденную землю даже на сравнительно большом от неё расстоянии.
«Я называю обретение сие берегом потому, – уточняет Беллинсгаузен, – что отдалённость другого конца к югу исчезала за предел зрения нашего. Сей берег покрыт снегом, но осыпи на горах и крутые скалы не имели снега. Внезапная перемена цвета на поверхности моря подаёт мысль, что берег обширен, или, по крайней мере, состоит не из той только части, которая находилась пред глазами нашими».
Лишь в 1940-х годах окончательно выяснилось, что этот так называемый «берег» (Alexander I) представляет собой самый крупный в южных полярных водах остров, «припаянный» к Антарктическому полуострову «шестого континента» вечными шельфовыми льдами пролива Георга VI (George VI Sound). Море, в котором расположен и остров Петра I, и Берег Александра I, носит теперь имя Беллинсгаузена.
Рисунок 54. Горы на Берегу (Земле) Александра I. Фотография.
Следует отметить, что в ряде трудов, посвящённых первой русской антарктической экспедиции, можно встретить отличные от вышеприведённых даты открытия ею острова Петра I и Берега Александра I – соответственно 9 и 16 января (по старому стилю) 1821 г. Такие цифры даются с учётом поправки во времени, вносимой в обычный отсчёт дней по хорошо известной географам причине. В кругосветном путешествии, при постоянном следовании в восточном направлении один и тот же календарный день «растягивается» на двое астрономических суток[76 - На этом основана сюжетная интрига одного из самых известных романов Жюля Верна – «Вокруг света в 80 дней»: «удвоение» суток позволяет вернувшемуся из путешествия персонажу успеть в клуб к предварительно оговорённому времени, выиграть пари и избежать разорения.]. Как мы помним, с момента выхода из Рио-де-Жанейро русские корабли, в общем и целом, перемещались к востоку. Естественно, командиры шлюпов учли этот факт: на флагманском «Востоке» «повторили» день 3 февраля 1821 г, а на «Мирном» пересчёт дат произвели намного раньше: там «удвоили» день 4 декабря 1820 г.
От Берега Александра I суда пошли на северо-восток – к земле, о существовании которой никто из участников экспедиции по выходу из Кронштадта даже не подозревал.
Дело в том, что ещё в Порт-Джексоне Беллинсгаузен получил письмо от генерал-майора барона де Тейль фон Сераскеркена – российского посла при находившемся в Бразилии португальском дворе[77 - См. главу 6.]. Посол извещал капитана, что в феврале 1819 г англичанин Смит, капитан торгового судна «Виллиам», обходя Огненную землю, из-за продолжительных противных ветров отклонился далеко к югу, и, оказавшись не по своей воле на 63-й параллели, обнаружил там неизвестную сушу. Смит назвал её Южной Шетландией: он, разумеется, вообразил, что видит выступ легендарного материка Terra Australis Incognita. Информацию из Бразилии подтвердил услышанный русскими в том же Порт-Джексоне рассказ капитана судна английской Ост-Индской компании.
Беллинсгаузен сомневался в обоснованности претензии Смита на столь важное открытие, но решил сам произвести осмотр случайно обнаруженной англичанином земли: если она – не оконечность материка, то корабли смогут обогнуть её с юга.
24 января (5 февраля) в 8 часов утра на горизонте показался берег Южной Шетландии. Подойдя поближе, моряки увидели высокий остров с чёрными крутыми берегами: более пологие участки суши были покрыты снегом, а у юго-западной оконечности, между двумя возвышавшимися над водой высокими скалами, кипел на камнях бурун. Фаддей Фаддеевич назвал этот остров Бородино (сегодня известен как остров Смит). За ним через пролив шириной около 37 км лежал другой остров, который назвали Малоярославцем (сегодня – остров Сноу). На следующий день, обогнув восточный мыс второго острова, мореплаватели без труда, но с некоторым удивлением разглядели за невысоким плоским берегом 8 стоявших на якоре в заливе коммерческих судов под английскими и американскими флагами. Итак, предприимчивые иностранные мореходы уже вполне освоились на этой совсем недавно открытой земле! Очень скоро участники русской экспедиции узнали о судах в бухте и прибывших на них людях достаточно много, а пока, продолжая плыть вдоль южного берега, обнаружили справа по курсу ещё один высокий, но заснеженный сверху остров, который назвали именем барона Тейля, сообщившего Беллинсгаузену об открытии Южной Шетландии.
Войдя в 10 часов в пролив, отделяющий остров Тейля (сегодня – Десепшн) от берега, вдоль которого они шли, моряки заметили идущий им навстречу американский бот. Оба шлюпа легли в дрейф, и с «Востока» послали ялик навстречу гостям. Снова обратимся к записям Фаддея Фаддеевича:
«Вскоре после сего на нашем ялике прибыл господин Пальмер, который объявил, что он уже 4 месяца здесь с тремя американскими судами, и все промышляют в товариществе. Они обдирали котиков, коих число приметно уменьшается. В разных местах всех судов до 18, нередко между промышленниками бывают ссоры, но до драки ещё не доходило. Г-н Пальмер сказал, что вышеупомянутый капитан Смит, обретший Новую Шетландию, находится на бриге «Виллиам», что он успел убить до 60 тысяч котиков, а вся их компания до 80 тысяч, и как прочие промышленники, также успешно… производят истребление котиков, то нет никакого сомнения, что около Шетландских островов скоро число сих морских животных уменьшится, подобно, как у острова Георгии и Маквария. Морские слоны, которых даже здесь было много, уже удалились от сих берегов… в море. По словам г-на Пальмера, залив, в котором мы видели… 8 судов, закрыт от всех ветров, имеет глубины 17 сажен (51,11 м – А.Л.), грунт – жидкий ил; от свойства сего грунта суда их нередко с двух якорей дрейфуют; с якорей сорвало и разбило 2 английские и одно американское судно… Господин Пальмер скоро отправился обратно на свой бот, а мы пошли вдоль берега».
Странное это было плавание. «Обошед Шетландию с южной стороны, при ясной погоде, мы могли хорошо видеть и описать всю гряду узких высоких островов, покрытых льдом и снегом, – констатировал П.М.Новосильский. – Гряда эта простиралась почти от юго-запада на северо-восток на 160 миль (296,48 км – А.Л.)».
Слово «открытия» было бы в применении к сделанному ими в Южной Шетландии не совсем адекватным. Воды, которыми шли теперь «Восток» и «Мирный», временами напоминали скорее Ла-Манш, чем пустынные антарктические моря: чего стоила вполне «обжитая» промысловиками гавань с восемью судами или идущий навстречу бот! Вечером того же дня (25 января) наблюдали, как лавировал в широком заливе английский охотничий бриг…
Однако именно наши соотечественники первыми тщательно осмотрели, запечатлели на карте и снабдили названиями острова этого, как оказалось, архипелага. Все виденные 25-го, кроме острова Тейля, были названы в честь мест сражений времён Отечественной 1812 г и последующих войн с Наполеоном Бонапартом: острова Смоленск (тот, вдоль берега которого плыли с 4 часов утра до 13.30), Березино, Полоцк, Лейпциг и Ватерлоо (сегодня – острова соответственно Ливингстона, Гринвич, Робертса, Нельсона, Короля Георга I). 26 января к ним на карте добавился остров Елены (сегодня – остров Бриджмена); фактически – большой камень на юго-восток 72° от юго-восточной же оконечности острова Короля Георга, или Ватерлоо.
В тот же день была произведена высадка на остров Ватерлоо в районе мыса, названного капитаном Смитом Норд Форланд. Мыс этот оканчивался подводным рифом, «а далее, – писал Беллинсгаузен, – берег возвышается в гору, покрытую снегом и густыми облаками. Мы … спустили ялик; я послал господина Лескова осмотреть берег; господа Симонов и Демидов поехали вместе с господином Лесковым… Яликов, посланных на берег с обоих шлюпов, мы дожидали, держась на том же месте, откуда их отправили; наши путешественники возвратились не прежде вечера, привезли несколько камней, принадлежащих к переходным горам, несколько моху, морской травы, трёх живых котиков и несколько пингвинов. Господин Лесков объявил, что… нашёл 2 ручья пресной воды, текущих с гор и впадающих между мысами в море, но что по… большому буруну гребным судам в сём месте держаться худо; нашли множество ободранных котиков, доску с палубы и бочку. Первое доказывает, что промышленники были на северном мысе, а … бочка и доска, вероятно, выброшены после претерпенного кораблекрушения. Берег состоял из камня, покрытого сыпучей рухлою землёю, обросшею мохом; кроме сего никакого прозябаемого (растительности – А.Л.) не заметили».
Судьба привезённых Лесковым котиков оказалась печальной: «помещены все вместе на юте в ванне, но они всё время были весьма беспокойны, ворчали друг на друга и нередко доходило у них до драки, что принудило нас скорее их убить, чтобы они не перепортили своих шкур. Я оставил одного живого для того, что господин Михайлов желал его срисовать».
Капитан отмечает, что пингвины, доставленные в этот раз на «Восток», были, как и виденные русскими прежде, «трёх родов». Из следующего за этим достаточно детализированного описания мы узнаём, наконец, кое-что о той загадочной породе пингвинов, которая встречалась нашим соотечественникам на острове Маквари, но отсутствовала на острове Завадовского:
«Простирая плавание 2 лета между льдами Южного Ледовитого океана в том месте, где пингвинов множество, мы видели оных только три рода, и, вероятно, нет других пород[78 - В этом Ф.Ф.Беллинсгаузен ошибся: в настоящее время известно 18 видов пингвинов. См. http://mirplaneta.ru/vidy-pingvinov-foto-opisanie.html (http://mirplaneta.ru/vidy-pingvinov-foto-opisanie.html)]…
Из тех, которые нам попадались, в самом большем было весу 1 пуд 25 фунтов (27 кг 720 г – А.Л.). Нос у него острый, лапы чёрные; жёлтые пятна простираются от ушей по бокам на передней части шеи и сливаются с белым брюхом, спина, зад шеи и верх головы тёмно-серо-синеватые» (см. Приложения, рис. 5)
Судя по весу и окраске, это – королевский пингвин (схожие с ним внешне императорские значительно крупнее – их вес может даже превышать 40 кг). Такое название встречается в записках участников плавания, но употребляется скорее как субъективная характеристика, чем как строгий классификационный термин; поэтому ему не всегда можно доверять[79 - См. в главе 7 о хохлатых пингвинах.].
Рисунок55. Королевскиепингвины. Фотография.
King Penguins (Aptenodytes patagonicus) at Edinburgh Zoo, taken by Sean Mack with an Olympus C8080W. Originally uploaded to en.wikipedia.org by the author. CC BY-SA 3.0: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=503639
Утром 27 января были нанесены на карту острова Трёх Братьев (Аспленд, Гиббс и О’Бриен) и остров Рожнова, названный в честь контр-адмирала, под командованием которого Беллинсгаузен служил в молодости (последующие экспедиции не обнаружили этого острова, и что видели тогда с «Востока», остаётся загадкой). 29-го описали острова адмирала Мордвинова (Элефант), Михайлова (назван в честь художника экспедиции; сейчас это остров Корнуэльс) и вице-адмирала Шишкова (Кларенс).
Русские наименования южношетландских островов, как видим, не прижились, но вряд ли это можно считать исторической несправедливостью: всё-таки первооткрывателем этих земель был британский подданный, и он же проложил туда дорогу европейцам. Гораздо обиднее для нас то, что действительно открытые Беллинсгаузеном и Лазаревым острова Полинезии не сохранили, в большинстве своём, предложенные россиянами названия. Но вернёмся к нашей истории.
30 января (11 февраля) начальник экспедиции, скрепя сердце, но не своё судно (чего он просто не мог сделать), вынужден был признать: «Восток» с его протекающим корпусом сделался совершенно негодным для дальнейшего плавания в ледовитых морях.
«От шторма лопнули 2 кницы[80 - См. примечание 47.],… и обе оказались гнилы. Беспре-станное выкачивание воды из шлюпа производило большую сырость и в короткое время могло быть пагубно для здоровья служителей, которые уже 14 недель находились в сыром и холодном климате Южного полушария. По сей причине и видя, что на таковом расслабленном шлюпе, каковым сделался «Восток», при приближающемся позднем бурном времени не должно оставаться далее в больших южных широтах, я решился возвратиться на север и по прибытии в Рио-Жанейро подкрепить шлюп, дабы без опасения достигнуть в Россию».
Сказано – сделано. Миновав 3 (15) февраля 1821 г меридиан Петербурга и замкнув таким образом пройденную ими по поверхности земного шара окружность, русские суда через два дня повернули на ONO (восток-северо-восток). В тот день – 5 (17) февраля – странники ступили на дорогу, которая вела к дому.
Глава 12. «Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей!»
Запись в дневнике мичмана «Мирного» Павла Михайловича Новосильского:
«30 января с утра ветер начал свежеть. Шлюп «Восток» был в ненадёжном состоянии: кницы лопались, и вода сильно прибывала; беспрестанно выкачивали её помпами».
Продолжать плавание в приполярных водах с их плавучими ледяными горами, густыми туманами и свирепыми бурями на фактически разваливавшемся судне было, конечно, совершенно невозможно, и 30 января (11 февраля) 1821 г Фаддей Фаддеевич объявил о прекращении исследования этих областей и отбытии в Бразилию.
Курс, которым шли с 5 (17) февраля, лежал несколькими градусами восточнее прямого пути к южноамериканским берегам – и был выбран, как пояснил Беллинсгаузен, «дабы и наш обратный путь принёс несколько пользы географии». Руководитель экспедиции решил возобновить впервые предпринятые им в декабре 1819 г, но оказавшиеся тогда безуспешными поиски якобы открытого в 1675 г капитаном де ла Рошем острова Гранде[81 - См. главу 7.]. На этот раз мореплавателям повезло не больше. 7 февраля в 18.00 корабли вышли «на самое то место, где предполагает г-н Пурди остров Гранде; но мы, при довольно ясной погоде, осматриваясь… во все стороны, ничего не приметили, хотя по ясности дня могли видеть остров на расстоянии двадцати пяти миль (46,325 км – А.Л.), ежели бы находился на сем пространстве в которой бы то ни было стороне. Итак, кажется, нет никакого сомнения, что сей остров вовсе не существует».
19 февраля умер последний взятый в Новой (Южной) Шетландии котик. Его хотели доставить в Россию живым, но, по воспоминаниям Фаддея Фаддеевича, зверёк, «сколько ни старались кормить его, … ни до чего не касался во все 23 дня бытия его на шлюпе».
28 февраля (12 марта) «Восток» и «Мирный» вторично (после ноября 1819 г) отдали якоря на рейде Рио-де-Жанейро. Здесь экспедиция застала более трёхсот судов под флагами разных стран, включая португальский фрегат, королевский брандвахтенный корабль «Иоанн VI», американский фрегат и 2 английских военных брига; 2 марта подошёл ещё и небольшой голландский фрегат, а 26-го – 2 французских корабля: фрегат и 74-пушечный линейный под флагом контр-адмирала Жюльена, бывшего участника знаменитого плавания адмирала д’Антркасто[82 - д’Антркасто, Раймонд Жозеф де Брюни – французский мореплаватель. В 1791 г был послан на поиски бесследно пропавшей экспедиции Жана Франсуа де Лаперуза. В путешествии его сопровождал учёный Лабинардьер. Хотя никаких следов Лаперуза эта экспедиция не нашла, она расширила знания европейских учёных о Новой Каледонии, островах Тонга, архипелаге Луизиада, Соломоновых островах, островах Адмиралтейства, Новой Британии и Ириане. 20 июля 1793 г д’Антркасто умер в Тихом океане после тяжёлой болезни.].
В это время в Бразилии кипели докатившиеся до неё из Португалии политические страсти. За несколько дней до прихода русских шлюпов находившийся с 1808 г в Рио король Жуан (Иоанн) VI объявил о своём намерении вернуться в Лиссабон, где обещал удовлетворить требование общественности утвердить в метрополии конституцию. Дело в том, что сторонники самоуправления португальской Америки также имели претензии к королю: они настаивали на том, чтобы монарх, пока общегосударственная конституция ещё не утверждена, дал Бразилии другую, по образцу испанской. Оба командира шлюпов и старший офицер «Востока» Завадовский даже присутствовали на созванном по этому поводу народном собрании; правда, лишь до того момента, когда избранные на митинге депутаты, не застав короля в его столичном дворце, отправились в колясках к его загородной резиденции. Напуганный размахом народных волнений Жуан VI перепоручил Бразилию наследному принцу дону Педро, а сам форсировал приготовления к отплытию за океан.
4 (16) марта состоялась церемония инспектирования монархом своего корабля, которую Ф.Ф.Беллинсгаузен описывает так: «Он (король – А.Л.) ездил сегодня на своей вызолоченной барже осматривать корабль «Иоанн VI», на котором намерен отправиться. Многие духовные особы были … в числе назначенных к сопутствию его. Когда король проезжал мимо наших шлюпов, люди стояли по реям и кричали «ура!», и с шлюпов произведена пальба из всех орудий. В сие время на королевской барже перестали гресть, и чиновник, державший подле его величества штандарт, говорил краткую речь в честь государя императора нашего. По окончании речи все гребцы на барже встали и прокричали троекратно «ура!». После обеда королева проехала мимо наших шлюпов, и её величеству отданы те же почести, как королю».
Рисунок 56. Жуан (Иоанн) VI, король Португалии
Это была не последняя в Рио подобная церемония, в которой пришлось участвовать нашим морякам. 9 марта их корабли посетил русский посол барон Тейль – и, по свидетельству Фаддея Фаддеевича, «нашёл всех служителей здоровыми и в лучшей исправности». Далее там же читаем: «Со времени прибытия в Рио-Жанейро шлюпы «Восток» и «Мирный» посещаемы были ежедневно разными особами. Почти все посланники иностранных дворов и любители редкостей к нам приезжали».
В отличие от экскурсий «любителей редкостей», визиты дипломатов на русские корабли имели вполне практическую цель. Поскольку король со всем двором переезжал в Европу, послам, естественно, надлежало следовать за венценосцем: на предмет чего и производился поиск подходящих судов. Когда «Восток» был более или менее отремонтирован, Беллинсгаузен предоставил свой шлюп в распоряжение барона де Тейля фон Сераскеркена, а русский поверенный в делах коллежский советник Бородовицын и его коллега при датском посольстве итальянец Дель-Примо-Даль-Борго перебрались с берега на «Мирный».
Королевская эскадра ушла из Рио-де-Жанейро 14 (26) апреля 1821 г, а русские суда отправились к европейским берегам 23 апреля (5 мая); с ними вместе рейд Рио покинули французы и 2 португальских фрегата. П.М.Новосильский вспоминал, как переносили пассажиры «Мирного» морской переход в Европу: «… господин Бородовицын очень терпел от качки и почти не вставал со своей койки, а итальянец Дальборго храбрился в погоду и был самый приятный собеседник».
Запись в «Памятнике» матроса 1-й статьи со шлюпа «Восток» Егора Киселёва, датированная 13 июня 1821 г[83 - Даты в дневнике Киселёва часто не совпадают с указанными в официальной хронологии экспедиции. Согласно последней, шлюпы достигли берегов Португалии 17 (29) июня и отдали якоря на лиссабонском рейде утром 18-го (30-го). Такие несовпадения возникали, видимо, потому, что Киселёв вёл свой дневник нерегулярно и иногда вносил записи в него «задним числом», уже не помня точно, когда произошло то или иное событие.]:
«Пришли в Лиссабон, португальский город пребольшой, напитки предешёвые и фрукты, стоянка якорная хорошая».
Как оказалось, флотилия короля, покинувшая Бразилию за 9 дней до «Востока» с «Мирным», сюда, в столицу метрополии, ещё не прибыла. Она появилась четырьмя днями позже и была торжественно встречена властями, населением города и всеми стоявшими в порту судами. В кратком описании Егора Киселёва: «Тут для его королевского величества была по 3 дни ламинация (иллюминация – А.Л.), и расцветали флагами, и была пушечная (пальба – А.Л.), и стояли по реям и кричали “ура!”».
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: