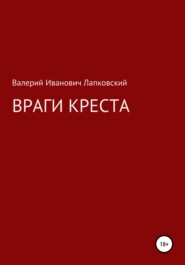 Полная версия
Полная версияВраги креста
Монархизм Гоголя неотделим от его личной православной религиозности.
Растрепанная действительность России стояла перед Гоголем нагишом. Его врагом была бестолковщина времени.
«Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божии помазанники остались в стороне?» ‒ спрашивает «Переписка с друзьями». – «И к чему при таком ходе вещей сохранять еще наружные святые обычаи Церкви, небесный хозяин которой не имеет над нами власти? Или это еще новая насмешка духа тьмы?».
Гоголь вовсе не поклонник отвлеченных начал. Христианство для него не умозрительная система, а дело жизни.
Он поднимает вопрос, актуальный для наших дней: «как сделать, чтобы за Церковью вновь утверждено было то, что должно вечно принадлежать
Церкви? Словом, как возвратить все на свое место?» Как добиться «законного водворенья Церкви в нынешнюю жизнь русского человека»?
Вместо того, чтобы щегольнуть новой пьесой или поэмой – «заехать в магазин и купить какое-нибудь украшение для камина или стола, на что падки у нас как дамы, так и мужчины (последние еще больше и суть не женщины, а бабы)», ‒ Гоголь ударился в богословие, погрузился в чтение св. Иоанна Златоуста89, принялся пропагандировать «выгнанного на улицу Христа» губернаторам, священникам, поэтам, графиням, чиновникам, помещикам… Он желал «ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт», чтобы человек не «зажил собакой», чтобы в мире хотя бы немного подтаяла пошлость.
«Пошлость… ‒ одно из главных отличительных свойств дьявола, в чье существование… Гоголь верил куда больше, чем в существование Бога», ‒ потчует нас зевотой Владимир Набоков. Откуда у него столь бесценная информация? Опять-таки из цидулки Белинского, укорявшего Гоголя в том, что тот преисполнен не истиной Христа, а учением дьявола?
В последний период жизни Гоголь почти ничего не писал. Это удручает Набокова: «Ведь только тень Гоголя жила подлинной жизнью – жизнью книг, а в них он был гениальным актером».
Жизнь и впрямь казалась зябнущему Гоголю тенью, книги, сочиненные им, ‒ актерством, и не было ничего рядом подлинного до тех пор, пока жизнь воспринималась им сугубо эстетически, пока не возникла необходимость дать самому себе отчет, куда же все катится. «Не будь в нем… самых тяжелых его обстоятельств и внутренних терзаний душевных, которые силою заставили его обратиться жарче других к Богу и дали ему способность к Нему прибегать и жить в Нем так, как не живет в Нем нынешний светский художник», ‒ Набоков мог бы проскользнуть мимо этих признаний из «Переписки», как мимо домов телеграфистов с их вечными именинами.
Но «прежде чем одолеть вечное зло во внешнем мире, как художник, Гоголь должен был одолеть его в себе самом, как человек. Он это понял и… перенес борьбу творчества в жизнь»90. Как бы продолжая эту мысль Мережковского, другой русский философ утверждал: «религиозное ощущение кризиса культуры ни в ком, быть может, не достигало такой силы, какая запечатлена Гоголем….; Трагедию христианского мира он переживал с исключительной напряженностью и всю ложь, всю религиозную болезнь века ощущал с неповторимой остротой. Уже не пошлость, не измельчение современности мучают его, а религиозное ощущение нависшей над миром трагедии сжигает его душу»91.
Гоголь мечтает о новом шедевре, который «огнем благодати», «скорбью ангела» духовно воспламенит всю Россию.
Предполагать, будто религия искалечила его талант – нелепо. Разве Набокову не известно, что гусеница может превратиться в бабочку? Разве метафизика подрезала крылья вдохновения Данте? Или «Божественная комедия» ‒ не гармонический сплав искусства и религии? Бог остается для Гоголя источником высшего лиризма. Он указывается в «Переписке»: все наши великие поэты «видели всякий высокий предмет в его законном соприкосновении» с Богом.
Что может съязвить по этому поводу Набоков? Вот как бренчит его веселый стих:
«В стороне от больших дорог
И от снов, освященных веками,
В этом мире, кишащем богами,
Остаюсь я безбожником с вольной душой».
Почему же столь «вольная душа» заявляет, будто «пьесы Гоголя – это поэзия в действии, а под поэзией я понимаю тайны иррационального, познаваемые при помощи рациональной речи»?
Не выражается ли в данном случае Набоков, как городничий, антиномически сопрягающий в путанной записке Провидение с парой соленых огурцов? Что есть более «иррационально», чем Провидение, которое пробуют постичь с «помощью рационально» соленной прозы?! Поистине «поэзия такого рода вызывает», ‒ изъясняясь словами Набокова, ‒ «не смех, не слёзы, а сияющую улыбку беспредельного удовлетворения, блаженное мурлыканье…».
Это кошачье мурлыканье раздается и в момент, когда Набоков млеет от того, как Гоголь виртуозно описал в конце седьмой главы «Мертвых душ» маету приехавшего из Рязани поручика, по-видимому, охотника до сапогов, который заказал уже четыре пары и беспрестанно примеривает пятую. Демонстрируя на ночь глядя новые модели обуви, офицер никак не ляжет в постель, все поднимает ногу и обсматривает бойко и на диво стачанный каблук.
Набокову страсть как хочется, чтобы Гоголь навеки увяз в этой «сапожной рапсодии», чтобы Николай Васильевич закис в чердачной лирике ночной тишины, чтобы на его сердце никогда не всходил Иерусалим, куда Гоголь отправился, как позже Чехов на Сахалин…
Живи Николай Васильевич сейчас, Набоков (как ни проклинает он уродливые виллы красивых актрис) потребовал бы, чтобы Гоголь воспел стереофонический унитаз.
Попав под каблук музы Гоголя, считая, что весь феномен Гоголя – в языке, а не в идеях, Набоков нежданно-негаданно в двух-трех фрагментах своего исследования вдруг начинает вопреки самому себе вещать если не интонациями библейского мужа, то, во всяком случае нотками пушкинского беса, который верует и трепещет.
«Но водолаз, искатель черного жемчуга, тот, кто предпочитает чудовищ морских глубин зонтикам на пляже, найдет в «Шинели» тени, сцепляющие нашу форму бытия с другими формами и состояниями, которые мы смутно ощущаем в редкие минуты сверхсознательного восприятия».
Что за мистика?!
«На этом сверхновом уровне искусства литература, конечно, не занимается оплакиванием судьбы обездоленного человека или проклятиями в адрес власть имущих. Она обращена к тем, тайным глубинам человеческих душ, где проходят тени других миров, как тени безымянных и беззвучных кораблей».
Проза Набокова шикарна, как новая шинель Акакия Акакиевича.
Лжет он или говорит правду, тревожа «тени других миров»? Ведь для него тенью является и подлинная жизнь Гоголя…
Николай Васильевич как-то сказал: «Нельзя повторять Пушкина».
В оценке жизненной драмы Гоголя нельзя повторять и Набокова.
Мистерия Штейнера
«Сущности не следует
умножать без необходимости».
«Бритва» Оккама.
По воспоминаниям благодарных биографов, Рудольф Штейнер питался какой-то вареной травкой со сладкой подливой.
Он произнес тысячи лекций.
И написал много любопытных книг.
Под утомленным горлом у него сидел пышный бант, нос был обручен с пенсне.
Одно время выдающийся человек жил в браке с состоятельной дамой; поначалу столовался у нее как учитель четырех детей, оставшихся у женщины от предыдущего замужества.
Для Штейнера эти дети, вероятно, играли ту же роль, что и духовные системы Востока и Запада, которые он использовал в своем многогранном творчестве: воспитатель помогал им лучше разобраться в себе, уяснить собственную сущность, способствовал их становлению в качестве полезных членов общества.
Ментор был туговат на одно ухо.
Разумеется, данное обстоятельство не мешало ему, как он полагал, правильно ориентироваться, скажем, в христианстве. Не говоря уже о буддизме, оккультизме, теософии, науке, искусстве, философии. Штейнер вдоль и поперек изучил Августина, Паскаля, Канта, Ницше, Вл. Соловьева, а также иных заслуживающих внимания мыслителей и ведал их сильные и уязвимые места.
Когда дети подросли, педагог волею Провидения соединил свою жизнь с другой представительницей прекрасного пола. У нее было необыкновенное имя: Антропософия.
С нею медитант провел немало чудесных лет. Супруги даже чуть не обзавелись фамильным замком – Гетеанумом, храмом, который Штейнер по недостатку средств сооружал в Швейцарии с помощью доброхотов из разных стран, привлеченных стройностью и миловидностью его изысканной подруги. Это капище, сожженное ничего не понимающими обывателями, проектировалось главным архитектором как центр, призванный заменить все до сих пор созидаемые пагоды, мечети, ступы, церкви, где учат не тому, чему нужно.
В возведении стен Гетеанума принимали участие неугомонные русские интеллигенты. Мережковский, Белый, Волошин, Минский лично знали Генерального секретаря германской секции теософов. В литературном наследии доктора Штейнера сохранилось несколько лекций, прочитанных специально для русских искателей Истины. «Благо России, ‒ подчеркивал вегетарианствующий автор, ‒ существует, и имя, этого спасительного блага – антропософия».
В изданном в 1935 г. сборнике «Переселение душ» Бердяев, Булгаков, Франк, Зеньковский, Вышеславцев отклонили радужную сотериологию штейнерианства, но совсем недавно в СССР на русском языке мелькнуло исследование, виновник которого патетически воскликнул: «Разве не под куполом Гетеанума был сотворен отныне и навеки светлый обряд человекомудрия: соединения Антропоса и Софии!»92.
Особенные мистические переживания и чувства, несомненно, бурлили внутри Штейнера, но действительно ли он – указатель пути для России, и, как ликовал Андрей Белый, ‒ «реставратор основ христианства»?
Андрей Белый коллекционировал открытия Штейнера, точно обгорелые спички, которые он собирал, связывал в пучки и прятал под кроватью на тот случай, если в Москве зимой не окажется дров. По свидетельству Н. Бердяева, поэт «был штейнерианцем, но в известный момент стал смертоносным врагом Штейнера и писал о нем ужасные вещи, потом опять вернулся в лоно штейнерианства»93.
Можно ли доверять увлечению этого символиста?
Утверждая, что глубоко проникнуть в область теософии и ее значение для современной духовной жизни допустимо прежде всего на примере Христа, Штейнер высказал ряд положений, не идущих вразрез с церковным пониманием миссии Спасителя. «Сила христианства», ‒ консолидировался изобретатель антропософии с патристикой, ‒ именно в том, чтобы сохранять самым тщательным образом человеческое достоинство и человеческую ценность». «Любовь… нечто божественное. Поэтому каждый может понять ее в той мере, в какой он сам причастен божественному».
Штейнер однако считает, что до него христианство не могло достичь познания высших миров, сподобиться ясновидящего прозрения того, что такое мистерия Голгофы.
Критикуя догматическое христианство, доктор, вероятно, мнил, что (выражаясь его языком) подобно крапиве берет на себя разгрузку почвы, заполненной неусваяемыми остатками. Он без обиняков заявил, что дошедшие до нас Евангелия искажают сущность Христа. Исковеркал текст Благовестия, в частности, переводчик Священного Писания бл. Иероним.
Предлагая дешифрировать Новый Завет оккультным методом, алхимик двадцатого века перво-наперво сообщил о найденной им истине о двух мальчиках. Оказывается, было два Иисуса: один из дома Давидова, другой из дома Соломонова94.
Простейшие теософические постулаты сводятся к тому, что человек состоит из физического, эфирного, астрального тела и «Я». В древние времена физическое тело развивалось на Сатурне, эфирное на Солнце, астральное на Луне. Все это, утверждает Штейнер, исследовано исторически, на космическом уровне. Земнородные обитатели на других планетах приобрели облик сообразно с тамошними условиями и такими пришли на землю. Затем они сбросили с себя материю небесных светил, как платье. И стали перевоплощаться, живя, умирая и шагая из одной жизни в другую.
Внешнее экзотерическое учение христианства не обладало, по Штейнеру, тем, что гнездится в сердце теософии, питающейся соками буддизма. Христианство не доросло до доктрины о перевоплощении и Кармы – теории о повторяющихся земных жизнях, как результате ошибок, допущенных в предыдущем бытии.
В мальчика Иисуса вселилась индивидуальность Будды (куда делся другой отпрыск, непонятно) и пребывала в нем до 12 лет, а затем освободила место для индивидуальности Заратустры. Штейнер не уточняет, вкраплен ли был в тело Иисуса Магомет, кабы вдохновитель ислама воинствовал не после Христа, а до Него.
Тот человек, который ютился в теле Иисуса до тридцатого года его жизни, покинул тело выходца из Назарета. Христос снизошел в физическое, эфирное и астральное тело на Иордане, не участвуя с детства в построении психосоматической оболочки сына Девы Марии.
До крещения Иоаннова Христос обитал на Солнце95, – настаивает тайновидец, пряча от профанов секрет, на какой горячей звезде находился Христос: на той, что греет нашу планету, или на одной из тех, что рассеяны в иных галактиках. В начале христианской эры людские души собрались в пределах солнца вокруг архангела Михаила, который вместе с этими служащими ему душами прял Нить Переживаний по поводу ухода Христа с Солнца.
Позволительно ли воспринимать рассуждения антропософа о Христе и солнце как адекват церковного гимна во славу Христа – духовного Солнца? Для Церкви Христос – «Свет во откровение языков» не с крещения во Иордане, а с вифлеемских пеленок!
По Штейнеру, Христос владеет физическим, эфирным и астральным телом, но в Нем отсутствует человеческое «Я». «Я» заменено в Иисусе «сущностью Христа».
Это не означает, будто доктор аннулирует вообще человеческое «Я», как поступает буддизм. Он отрицает наличие «я» только у Мессии, что является гарантом того, что Спаситель впредь не будет воплощаться.
Штейнер выделяет земной период жизни Христа в узкий отрезок времени – от Иордана до Голгофы. Указанный период – «суть события жизни Бога Христа, но не события человеческого» бытия. «Здесь мы не имеем дело с человеком». Кто же в таком случае пил вино на браке в Кане Галилейской, Господь или человек?
В двадцатом веке, оракульствует оккультист, произойдет нечто идентичное по своей значимости мистерии Голгофы или как бы второму пришествию. Во-первых, Христос станет внутренним достоянием всех без исключения людей. Во-вторых, Он преобразится в Господина Кармы, в высших мирах на Него будут возложены функции «кармического бухгалтера», чем раньше занимался Моисей96.
Ясновидящий Штейнер словно забывает, что Христос сомневался, обрящет ли Он, когда вернется на землю, хотя бы одного верующего в Него. Если доктор считает эти слова Спасителя интерполяцией или досадным искажением, чем руководствуется «оккультно тренированный взор» при оценке других выражений Христа, принимаемых им за истину? Статистика конца текущего столетия опровергает прогноз строителя Гетеанума: количество людей, для которых Христос становится смыслом жизни, отнюдь не увеличивается; сейчас наименьшее число христиан – в Азии (в Китае и Японии всего лишь полпроцента, в Индии немногим больше двух процентов), свыше половины африканцев – мусульмане.
«Никогда нельзя касаться грубыми руками того, что является внутренней святыней человека», ‒ учит Штейнер. Такой святыней для человека выступает Христос, в котором нераздельно и неслиянно присутствуют Бог и Человек. Штейнер рассекает надвое Богочеловека, протаскивая идею, будто «сущность Христа» приняла человеческое тело не во чреве девы Марии, а лишь тогда, когда Иисус вышел на общественное служение, причем, человек в Нем тут же испарился.
Манихействующий мистик кладет клеймо язычества на Воскресение Христа: Христос, дескать, воскрес не Сам, Его воскресил Отец Небесный. Прообраз важных событий Евангелия мы должны, по Штейнеру, искать в обрядах посвящения древних мистерий (Озирис, Орфей, Будда, Заратустра, Аполлоний Тианский…)97. Действительно, «фигуры Ветхого Завета являются отдаленными знаками Воплощения и Искупления»98. Но что общего у
Воскресения Христа с тем, что Зевс сделал Геракла бессмертным, ‒ взяв его из погребального костра на Олимп, или с тем, что Громовержец воскресил своего сына, растерзанного Диониса – Загрея, сердце которого спасла Афина? Воскресение Христа, как и схождение Христа на землю, ‒ дело не только Сына Божия или только Бога Отца, но всей полноты Пресвятой Троицы. Во гробе, в аде душою как Бог, в раю с разбойником и на престоле Христос, свидетельствует литургия св.Иоанна Златоуста, был «со Отцем и Духом».
Штейнер порой отождествляет Дух с сознанием, Сына – с бессознательным компонентом в психике человека, Отца – с природой. Ему «совершенно непонятно страстное утверждение о равенстве Сына и Отца», то, что Лица Пресвятой Троицы «оба из вечности, богоедины». «Понимать здесь нечего, ‒ бурчит доктор, ‒ в это надо верить». Это и есть как раз то, чем он недоволен, поскольку вера в единосущие Троицы – «декрет» Церкви, а не размазня оккультистской логики.
Антропософский туз склоняется даже к реабилитации арианства. Почему Штейнер возмущен анафемой по адресу Ария? Ответ читаем у Вл.Соловьева: «В смутной идее ариан Христос является каким-то гибридным существом, более, чем человеком и менее чем Бог»99.
Христианство отвергает переселение душ. Св.Григорий Нисский в «Трактате «Душа и Воскресение» называет «нелепостью», «бреднями» передислокацию души из тела человека в растения, деревья, организмы плотоядных. «Душа не существует прежде тела»100. Пятый Вселенский собор осудил тех, кто заявляет о фантастическом прозябании души до рождения твари.
Для мистагога подобные свидетельства Церкви не что иное, как заблуждение. Оккультизм находится в абсолютном согласии с настоящим христианством, ‒ уверяет «Акаша-хроника», ‒ нужно лишь воссоздать синоптические Евангелия в их подлинном виде.
В Евангелии, ворожит Штейнер, вскрывается учение о повторности земных жизней101.
Где, когда, в каком пункте?
Карма – естественный закон духовной эволюции, страж справедливости; для антропософии порядки природы и нравственности совпадают. Кошмар безысходно мрачной перспективы бесконечных кармических перевоплощений – благо космического и божественного возмездия.
И это поистине было бы так, если бы мы не знали о милосердии Господа. В тайне Искупления, подчеркивал в «Философии свободного духа» Н.Бердяев, преодолевается кармическая подзаконность, которой не подвластен разбойник на кресте. Он будет с Христом в раю, не нуждаясь ни в каких инкарнациях безблагодатной теософии.
Считая христианство религией для всех людей, Штейнер без необходимости усложняет, запутывает понимание Нового Завета. Изощренное «ясновидение» загромождает доступ к Христу, если не всем, то очень многим, стремясь прельстить даже не «малых сих», а «избранных». Что привносит в постижение бессеменного зачатия от Духа Свята и Марии Девы миф (имагинация) о двух мальчиках Иисусах или внедрение в одного из них на тридцатом году жизни «сущности Христа»?
Объекты, которые не могут быть предметом знания в непосредственном человеческом опыте, встречаются в современной микрофизике и космологии, но запредельные приобретения швейцарского кандидата в Аполлонии Тианские не могут быть подтверждены никаким опытом и должны приниматься лишь в надежде и вере на то, что Штейнер, авось, не ошибается в своих априорных расчетах, когда кладет в их основу эмпирические данные, делая, по выражению Канта, шаг в метафизику через заднюю дверь.
Ничего удивительного тут нет, поскольку Штейнер не располагал критерием того, кто кем был или будет в метампсихозе.
Церковное сознание «изнемогает» (С. Булгаков), пытаясь постичь Тайны Божии. Соборный разум Церкви с помощью богословского вкуса оберегает себя от соблазнов широкого проникновения в потустороннее, вовремя полагая на уста печать молчания, дабы не скатиться в молитвенную фельетонность.
Вл. Соловьев (Штейнер благоговел перед ним) верил в загробную жизнь, но отказывался обсуждать вопрос, в каких формах она существует. Русский мыслитель вел себя в данной ситуации как осторожный кантианец. Автор же «Познания сверхчувственных миров», поглядывал на Канта свысока. Памфлет Канта «Грезы духовидца», нацеленный против Сведенборга – «кумира» Штейнера и Вл. Соловьева, – до сих пор не утратил своей актуальности как суровый критик «диких химер и причудливых гримас, длинными вереницами мелькающих перед обманутыми чувствами, хотя, быть может, имеющих своим источником действительное духовное воздействие»102.
Штейнер плавает в христианстве, как лист лотоса в озере: покоясь на воде, он не смачивается ею. «Наша истинная реальность зависит от нашей моральной ценности», ‒ начертал доктор в одной их своих книг, может, вообразив, что отпустил комплимент Ницше, чья философия вроде импонировала ему. В три последующие тысячелетия, пророчествовал поклонник розенкрейцеров, человечество должно как бы пропитаться моралью, иначе оно не пересеет собственного развития, лишь злоупотребив эволюцией.
Но «христианство шире морали»103.
«Христология Штейнера есть своеобразное модернизированное восстановление древних ересей», ‒ констатировал Н. Бердяев104. В антропософии разверзаются бездны сатанинские. «Истинный образ Люцифера стоит перед нами в недосягаемой красоте, которую он сохранил с древней Луны», ‒ восторгалась антропософская оса, цитируя затхлую, очевидно, гностистическую максиму: «Христос – истинный Люцифер!» «Никогда не следовало бы говорить, что люциферический элемент… нечто при всех обстоятельствах злое», – выступал в роли адвоката дьявола руководитель дорнахской общины105.
Однако демоны, как учил св. Исаак Сирианин, «обладают скоростью, но не светом»106.
«Нет более подходящего способа изучения черта, чем посещение материалистических и монистических собраний», – иронизировал Штейнер. Думается, что не менее подходящим вариантом для знакомства с нечистой силой являются и научные сочинения «очищенного и просветленного оккультизма».
Эклектическая и наукообразная система внеконфессиональной мистики – на распутье между логосом и дьяволом. Это ясно всякому христианину, если ему хотя бы поверхностно известны антропософские труды.
Штейнер умер, как и жил: у подножия Христа и Аримана – двух незавершенных скульптур, над которыми он с резцом в руках долго радел, желая украсить новый Гетеанум.
Победительница
Во имя Отца и Сына и Св. Духа!
Певучую и чистую душу Богоматери впервые, согласно Преданию, запечатлел красками на доске евангелист Лука. Пред иконой Приснодевы Марии и Ее Сына, ‒ писал один священник, ‒ человек открывает свою душу и эта икона отворяет каждому иные миры. Лик Божией Матери овален, причем овал удлинен и поразительно плавен, девственно чист по своим линиям. Особенно юны и девственны губы ‒ деталь, которая прежде всего выдает всякую внутреннюю несвежесть. Нижняя часть лица Богородицы дышит органическим благородством, глубочайшим аристократизмом тела и духа. Большие глаза Невесты Неневестной устремлены на нас и в то же время смотрят во внутрь себя, и от этих святых очей веет не только молодостью, но и умудренной зрелостью, величавым достоинством мысли, знающей жизнь не в одних мечтах, а в ее растленности и порче. Эти тихие глаза хранят бодрую надежду. Легкий нежный наклон головы Богоматери Младенцу Христу подчеркивает смирение и покорность высшему, что ласково сочетается с внутренней силой и вечной женственностью.
«Икона, ‒ утверждает св. Иоанн Дамаскин, ‒ есть триумф… и подпись в память победы отличившихся и одержавших верх ‒ и стыда побеждённых и поверженных демонов.»
Православная церковь именует Матерь Иисуса Христа Воеводой Победительной, имущей державу непобедимую, которая не раз освобождала нашу родину от всяких бед. Вспомним как по приказу Петра Великого икону Казанской Богоматери носили перед русскими полками накануне Полтавской битвы!
Не забудем и крымскую баталию 1856 года. Когда вертеп Христов на Святой Земле был поруган снятием звезды на месте Рождества Спасителя, самодержец Николай Первый встал на защиту святыни, объявив врагам Православия беспощадную войну. Крымская компания вспыхнула из-за ключей Вифлеемского храма: кому они должны принадлежать ‒ православным или католикам? Римо-протестантско-магометанская коалиция превратилась в крестовый поход против России. Без сомнения, то была война религиозная.
В начале ее друг сердечный убогого Серафима Саровского (Н.А. Мотовилов) прислал Государю для отправки в действующую армию копию иконы Богородицы «Умиление», пред Чьим Ликом, почти всю жизнь, теплилась неугасимой лампадой светлая душа преп. Серафима. Список с этой благодатной иконы украшает и наш Феодосийский храм. Царь передал сей образ в Севастополь, но тамошний главнокомандующий не обратил на него должного внимания, пока император сам не запросил, где икона? Разыскали и поставили на северной стороне, и ту сторону не смог одолеть неприятель!



