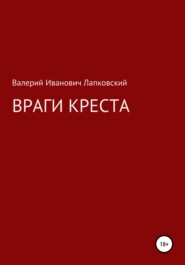 Полная версия
Полная версияВраги креста
Но, с другой стороны, как не исполнить свою любовь, как не выразить Заступнице мира сердечную благодарность за беспредельные милости к нам? Ведь Приснодева – одушевленный образ всего прекрасного, живое изображение всякой добродетели, совокупность и средоточие божественных и человеческих благодатей. Она Бога соделала Сыном Человеческим и людей же сотворила сынами Божиими.
Воспевая преславный вход в Божий храм премирной Царицы, когда Ей было лишь три года, Владыко Григорий полагает, что Ее родители Иоаким и Анна, отдавая свое чадо в чертог Царя неба и земли, совершили самый справедливый поступок. Ибо не должны выставлять на показ кому попало, да еще прежде времени, ни самого Царя, ни саму Царицу. Бог обитает в непреступном свете, в недоступном для зрения, потому и не подобало, что бы открытым для наблюдения образ жизни имела Скиния, где возобитал на земле Всевышний, поэтому и надо было сызмала заслонить Ее, поместить подальше, за стены храма. Тут она возрастала в безопасности от свалки разных нечистых помыслов, избрав молчаливый, отрешенный от всех вид жизни.
Ужели все сбывшееся тогда не вызывало удивления? Что значит для трехлетнего ребенка царский венец, украшенный листами золота и драгоценными камнями, в сравнении с теплотой материнских объятий, негой и заботой, которые она предпочла оставить? Ах, какая мощь у этой Отроковицы, совершенство вдохновения, превосходство величия! Кто эта – обновившая род человеческий, отъявшая от людей печаль, бывшую итогом праотеческого проклятия и вместо него насадившая на земле божественную и чистую радость, это общее и повторяющееся и года в год неувядающее ликование, всегда более сильное, чем течение всеразрушающего времени?!
Как жила Всенепорочная в храме? Она слушала писания Моисея, изречения пророков, когда народ приходил на богослужение каждую субботу; узнала об Адаме и Еве, о приведении всего из небытия в бытие, об изгнании прародителей из рая, и видела эту подверженную проклятию нашу жизнь и то, как человек постоянно склонен к ухудшению, отпадению от Бога, как неудержимо стремится человеческий род в пропасть ада. И тогда она молитвенно возвысила Себя к тому, чтобы привлечь к нам Бога, что бы Он Сам отстранил Свое проклятие, даровал благословение, и, исцелив немощное, соединил, сочетал с Собой Своё творение. Кто возлюбил Бога больше, чем Восхваляемая нами? Кто больше, чем Она, возлюблена Богом?
Если у Отца и Сына и Святого Духа любовь одна, одна и та же честь и согласие, то Пресвятая Богородица носит в глубине души всю несозданную Троицу, Одно из Лиц Которой Она бессеменно зачала во чреве и, будучи девой, безболезненно родила.
Она основание тех, кто прежде Нее, и Предводительница тех, кто после Нее. Она – величие пророков и начало апостолов, утверждение мучеников, фундамент учителей Церкви.
Подобно тому, как Богоизбранная Отроковица из обыденного прозябания переселила Себя в Божий храм, переселим и мы, братия и сестры, себя от земли на небо, от плоти к духу; презрим плотские наслаждения, приманки для души скоро приходящие; возжелаем духовных, благодатных дарований, исторгнем себя из земной сутолоки, вознесем наши жизни и мысли в небесный храм, во Святая Святых, где ныне обитает Богородица, одесную Своего Сына. Потому что только так с пользой для нас и богоугодным дерзновением дойдут к Ней приносимые нами песнопения и молитвы, и, таким образом, в добавление к благословению в нынешней жизни мы, благодаря Ее предстательству, будем наследниками так же и будущих благ, благодатию и человеколюбием от Нее рождшагося ради нас Иисуса Христа Господа нашего, Которому подобает слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Соприсносущным и Животворящим Духом ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Дядя марксизма
Для авторитарного характера
очень привлекательна идеология,
описывающая природу как могучую силу,
которой мы должны поклоняться.
Восприятие таких идей вызывает
у него психологическое удовольствие».
Э.Фромм
Истинной революцией в моде явилось обнажение ног женщин в начале двадцатого века. Беспристрастное желание понять это событие, выделить в нем то, что имеет непреходящее значение, равно как и то, что не выступает в качестве субстанции, напоминает попытку Людвига Фейербаха обнажить тайну религий.
Маркс и Энгельс называли себя «фейербахианцами». Они были «неоригинальными учениками», «только иссушившими доктрину учителя»141. Предложенная Фейербахом модель критики теологии принималась творцами «коммунистического манифеста» далеко не безоговорочно. «Материалист внизу, идеалист вверху», ‒ так оценивал Энгельс в брошюре «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» предтечу домарксового атеизма. «Беллетристический, местами даже напыщенный слог», «непомерное обожествление любви»142, «более остроумные, чем глубокие» соображения автора «Сущности христианства», его «тощая бессильная мораль» раздражали вождей пролетариата. Стратагеме Фейербаха «Человек человеку – бог» они противопоставили трезвый прозаизм «Человек человеку – продукт общественных отношений».
По Фейербаху, периоды в развитии человечества отличаются друг от друга лишь переменами в религии. Ни Марксу, ни Энгельсу такой сюрприз не нравился. Им казалось, что избавившись от традиционных верований христианства, в которых они росли с пеленок и которых кое-как придерживались еще в юности (особенно Энгельс), они навсегда освободились от новых «религиозных пут». Фейербах, точно неопытный дипломат, высказал публично то, о чем следовало помолчать: никакой религии ‒ вот моя религия! «Стремление Фейербаха построить истинную религию на основе материалистического по сути дела понимания природы можно уподобить попытке толковать современную химию как истинную алхимию. Если возможна религия без бога, то возможно алхимия без своего философского камня», ‒ пробовал дезавуировать Фейербаха Энгельс.
Он, однако, ошибался. Бог царит в антропологии предшественника научного атеизма. Этот бог – государство143.
«Фейербах в гораздо большей степени является духовным отцом марксизма, нежели Маркс», ‒ писал С.Булгаков. «Атеистический гуманизм Фейербаха составляет душу марксистского социализма».
Между проповедью взаимной любви у Фейербаха и призывам к экспроприации экспроприаторов у Маркса – дистанция почтенного размера. Гуманизма у Фейербаха все же на вершок больше, хотя выдвигая в центр своей метафизики учение о человеке в качестве отмычки тайн религии, он делает неожиданное заявление, как бы проговариваясь: «Все точки зрения, ставившие личность в философии во главу угла, носят теологический, нефилософский, антифилософский характер» («Изложение, развитие и критика философии Лейбница»).
Не кроется ли в данном заключении закамуфлированный антиперсонализм Маркса? И не подтверждает ли сей абзац теологический подтекст миросозерцания самого «атеистического богослова», чье жало направлено в солнечное сплетение христианства?
«Я предпочитаю быть дьяволом в союзе с истиной, чем ангелом в союзе с ложью», ‒ восклицает языком Фейербаха «прекословие лжеименного знания», норовящее «загасить все… церковные свечи». Разве не похожа на сатанинское искушение, испытанное Христом в пустыне, следующая фраза Фейербаха: «если природы и разум являются пределом, то и бог должен был бы оказаться ограниченным тем, что он может быть только богом, а не дьяволом, и высшим триумфом всемогущества бога было бы также оказаться дьяволом»?
«Откуда материальное существование мира?» ‒ вещает бородатый псевдобес и сам же итожит: «Все это важные вопросы, на которые теизм не отвечает и не может ответить по той простой причине, что уже первый вопрос «откуда мир?» сам есть глупость».
Щедро цитируя опровергаемых им отцов Церкви, в том числе и св.Григория Нисского, Фейербах обязан был помнить, что «теизм» вовсе не уклоняется от проблемы генезиса мира. Св.Григорий Нисский учил: «Если Бог не материален, то откуда материя? Каким образом возникает количественное из неколичественного, видимое из невидимого, определенное величиной и объемом из неимеющего величины и определенного очертания, и все прочее, усматриваемое в материи, – как и откуда произвел Тот, Кто не имеет ничего подобного в Своей природе?144
Почему сциентисты до сих пор ищут то, чем можно было бы детерминировать происхождение вселенной? По Фейербаху, они занимаются этим «по той простой причине», что сей поиск «сам есть глупость».
В христианстве, ‒ внушает гуманист, ‒ «душа должна была утратить свою неограниченную терпимость…, оставить дурное общество со сперматозоидами и другими существами подобного рода». Человеком управляет не душа, а сознание, мышление, высший продукт материи, «моцион мозга».
Кому принадлежит честь столь бесспорного открытия?
Материалисту Фейербаху?
Нет, жившему за несколько столетий до него «во тьме христианско-германской сапожной мастерской» мистику Якову Бёме145.
Во всех своих сочинениях Фейербах «с бессмертным упрямством» пропагандирует деревенский тезис: неживое – родитель живого. Современная наука более осторожна. «Неверно считать сознание просто физиологической функцией мозга», – думает, например, академик И.П. Дубинин. – «Сколько бы ни изучали строение мозга человека и процессы, идущие в нейтронах, мы, даже получив важнейшие данные по нейропсихологии, не поймем, что такое мысль»146.
Фейербах высмеивает «христианских умников», которые «вычеркнули из числа доказательств существования бессмертия человеческой души доказательство о ее предсуществовании». Если у души обнаружено начало, у нее должен быть и конец.
Душа каждого человека имеет начало в своем земном бытии. Она не существовала ранее внутри иной особи, в облике полипа, волка или короля. Христианство дискредитирует постулат индуизма о перевоплощении душ147. Но душа тем не менее вечна, ибо она не является чем-то искони присущим психофизическому организму; она – дыхание Божие, вдунутое Творцом в Адама, и потому наличествует в человеке как нечто безначально божественное148.
По Фейербаху, человек бессмертен лишь при условии, что его образ остается в памяти людей. У писателя шансов на бессмертие больше, поскольку его дух запечатлен в его книгах. Фейербах верит не в реальное, а в литературное бессмертие, не замечая, что в потоке вечности литература – это обол, который древние греки вкладывали в рот умершему, дабы тот мог уплатить за перевоз через Ахерон.
Человек не может быть богом! – упорствует антрополог.
Преследование скоморохов со стороны Церкви было бы «мальчишеством», как «борьба против моды». Церковь всегда чувствовала в искусстве лицедеев врага, но вряд ли осознавала, что ведет войну именно с кармой.
Неприязнь к ряженым не имеет ничего общего с элементами внешней театральности в Литургии. В храмовом богослужении человек есть только то лицо, каковым он стоит перед Богом в своей уникальности, неповторимости индивидуального облика. Это не переоблачение в новое тело, а присутствие в том, которое раз и навсегда дано смертному и в котором единожды и во веки веков явился Господь наш Иисус Христос, что не исключает в конечных судьбах мира преображения, просветления тела.
Скудельный сосуд, ‒ свидетельствует Церковь, ‒ не может быть богом, но только по природе, отнюдь не по благодати. «Вы боги», ‒ сказал Спаситель Своим друзьям, повторив стих псалмопевца.
С возникновением христианства, ‒ не унимается оппонент, ‒ человек потерял способность и желание вдумываться в природу, вселенную149. Для христианина все стало чудом. «Нет других доказательств бытия божия, чем чудо», ‒ декламирует философ в двадцать шестой лекции о сущности религии.
Нет другого чуда, чем доказательство бытия Бога!
Шопенгауэр, которого Фейербах выделял среди немецких мыслителей за его «откровенность и определенность», за то, что тот «заразился «эпидемией» материализма», гнал в шею «стародавнее заблуждение, будто лишь доказанное вполне истинно, и каждая истина нуждается в доказательстве, когда, напротив, каждое доказательство нуждается в бездоказательной истине, на которую само оно или же опять его доказательство опирается»150.
Фейербах понимал: после Канта доказательства бытия Божия несовместимы с апологетикой религии. Но, сосредоточив свою критику на доказательстве небытия Божия, он косвенно доказывал бытие Абсолюта, будто «основные понятия бога сводятся к тому, что бог есть бытие».
Бытие, однако, самая жалкая, скудная категория в «Логике» Гегеля, изученной Фейербахом. Бытие у Гегеля идентично ничто. Господь в христианстве прежде всего не бытие, а Дух, Сущий.
Мы живем среди природы – так неужели наше начало, наше происхождение находится вне природы? – рефлектировал Фейербах, словно тигр, родившийся в клетке и считающий своей родиной зоопарк. – Мы обитаем в природе, с природой – неужто мы произошли не из нее? Какое противоречие! …Природа никогда не возникала, безначальна и бесконечна.
Но коли материя никогда не возникала, т.е. у нее отсутствуют старт и финиш, каким способом она может стать живой? Ведь Фейербах втолковывает: «кто не хочет иметь начала и конца, должен отказаться от звания живого существа». Природа, по Фейербаху, «вообще не думает». Человек – плод природы. Как же он думает?
Раб рассудка впадает в заколдованный круг тавтологии, пытаясь понять природу «только через самое природу». Почему существует кислород? «На это я отвечу: он существует именно потому, что существует». Не правда ли, весьма убедительно?
«Там, где есть только бог, нет никакого бога».
Точно так, где есть только природа, нет никакой природы!
«Животные не говорят, потому что у них нет поэзии».
Животные не ходят в баню, потому что у них нет коммунального хозяйства. Соловьи не поют, потому что у них нет оперного театра.
«Цветы невинного юмора», до которого весьма охоч знаток христианства, благоухают в резюме: «Брак освящается не в Новом, а только в Ветхом Завете».
Семейные узы действительно благословляются в Ветхом Завете, но искажен ли институт брака в христианстве? Не Христос ли пил вино на свадьбе Кане Галлилейской? Вся история христианства – Кана Галлилейская, вечный радостный брак Агнца Божия и Его Невесты Неневестной, Церкви.
«В Новом Завете нет… доказательств или общих положений, которые указывали прямо на существование бога или небесной жизни».
Доказательств в том смысле, в каком их представляет себе Фейербах, и впрямь нет. Бог Иисус Христос мог доказать, что Он – Бог, лишь побожившись (С.Кьеркегор). А это означало бы, с точки зрения логики, порочный круг: то, что требовалось доказать, доказывалось бы с помощью того, что уже предполагается доказанным.
Фейербах не отрицает ни исторического существования Иисуса Христа151, ни того, что Назарянин пострадал во времена Августа. Арий девятнадцатого века лишь категорически отказывается признать в Иисусе Христе Сына Божия. Наряду с этим он рассматривает Христа не с исторической, а с религиозной позиции. Было бы педантизмом и совершенным непониманием религии сводить религиозные факты, существующие лишь в области веры, к фактам историческим, желая разыскать историческую истину, лежащую в их основе. «В историческом нет ничего религиозного, а в религиозном – ничего исторического», ‒ дублирует Гегеля Фейербах. Вся беда, однако, в том, что подход самого Фейербаха к сущности христианства сугубо историчен. Вся его критика религии пересыпана, точно кусок сала солью, ссылками, цитатами из сочинений отцов Церкви, реформаторов, философов. Вера в Христа для него – «область прошедшего». Психология верующего укладывается им в стереотип: «я верю в чудеса, но, заметьте, не в те чудеса, которые совершаются теперь, а в те, которые совершились когда-то и теперь, слава богу, относятся к далекому прошлому». Немного погодя Фейербах опровергает себя: «Чудесами началось христианство, чудесами оно продолжается»!
Мнение С.Булгакова о том, что прямые нападки Фейербаха на христианство и его догматику «при своем поверхностно-рассудочном характере» не представляют сами по себе ничего серьезного, чтобы с ними надо было считаться вполне объективно.
Редуцируя существование Бога из человеческого мозга, Фейербах, выражаясь его же словами, «выводит из головы мыслящего существа те нити, которые паук извлекает из своего заднего прохода».
«Святой» оккультист
Сколько ни сажали большевики в тюрьму архиепископа Луку (Войно-Ясенецкого), он все конопатил острог блинами. Тихий радостный свет разливался в его сердце, когда бил поклоны перед портретом лысого Ленина, висящим в его кабинете рядом с образом Богоматери. То ли не ведал, то ли ему было до лампочки, что «Настольная книга священнослужителя» еще до октябрьского переворота категорически предостерегала от неразумной ревности тех верующих, которые помещали фото о. Иоанна Кронштадского подле икон и возжигали перед ним лампадки (батюшка в то время не был канонизирован). А сколько искренних слов соболезнования отправил Владыка Лука в Кремль в связи с кончиной Сталина! Как это не похоже на бестактность преп. Федора Студита! Узнав о смерти императора-иконоборца, сей светоч Православия воскликнул: «Пал враг, сокрушён мучитель наш, да возвеселятся небеса и радуется земля! Погиб жестокосердный фараон, змий коварный, гонитель Христов, враг Богородицы, противник всех святых!»
Войно-Ясенецкий известен в качестве гениального лекаря, создателя классического учебника по гнойной хирургии; удостоен Сталинской премии. При коммунистах в церковном самиздате ходила по рукам его небольшая, отпечатанная на машинке работа «Дух, душа, тело». Поклонники архипастыря считают ее «замечательным» произведением. Превозносит оную до небес, например, сын именитого академика, доктора философии, тоже лауреата Сталинской премии, протоиерей В. Асмус. По благословению иерархов МП шедевр их коллеги, равно как и его довольно трафаретные проповеди, выпускают солидным тиражом; и посетители церковных лавок не шарахаются от этих сочинений в сторону, как «лошади, когда они привыкли к автомобилям» (изысканное выражение самого Владыки Луки). В современных колесницах приснопамятный архиерей, похоже, знал толк, но по непонятной причине влип в некую скандальную аферу из-за неправильного оформления бумаг на покупку машины для епархии. Власти завели дело. Взамен на закрытие криминала, «исповедник» дал согласие на закрытие в Крыму нескольких храмов. Конечно, это вранье. С точки зрения тех, кто причислил Войно-Ясенецкого к лику святых.
Раскроем, однако, богословский бестселлер «Дух, душа, тело».
«Наши рассуждения о соотношениях между телом, душой и духом, – пишет мудрый теолог, – начнем издалека». И, взгромоздясь на лошадь, что вовсе не пугается автомобилей, пускает ее издалека в галоп. Материал первых глав – приглашение к дилетантизму. Тут кишат элементарные частицы: нейтроны, протоны, мезоны, электроны, позитроны, радиоволны, инфракрасные лучи, электромагнитное поле, ультрафиолетовые и гамма-лучи. Здесь корпускулярная теория, электричество, масса имен: Паскаль, Кант, Шопенгауэр, В.Джеймс, Э.Гартман, Лейбниц, Фихте, Лотце, Иван Павлов, Анри Пуанкаре, Эрнст Мах, А.Эйнштейн, А.Бергсон и др. Впечатление произведено, аж дух захватывает, кажется, что будто автор не только знает понаслышке или из копеечных брошюр имена перечисленных властителей дум, но потратил огромную часть своей жизни на изучение, расшифровку их головоломных трудов.
О том, верно ли понимал Войно-Ясенецкий Канта или Шопенгауэра (скорее популяризаторов их фолиантов) и прочих упоминаемых им философов, свидетельствуют две реплики из его уникального опуса: «Умопостигаемый человек Канта – это то, что он называл «вещью в себе». На самом деле вещь в себе никак нельзя отнести к умопостигаемому индивиду, поелику, по Канту, она вообще никак не постижима. Шопенгауэр, по мнению архиерея, «противополагает разуму интуицию». Не интуицию, а волю. Кредо Шопенгауэра: интеллект играет ‒ воля танцует.
Чего ради Его Высокопреосвященство потчует читателя электронно-квантовым бульоном? Ради доказательства: у Бога есть духовная энергия, то бишь, любовь!
Разве мы не знали этого из уст св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, который не нуждался и не понукал нас к столь увесисто поверхностной физико-теоретической аргументации!
Покатавшись на научно-популярной лошадке, творец «Духа, души и тела» лихо пересаживается, точно барон Мюнхгаузен, на летящее пушечное ядро. «Извечно, – извещает он, – несутся в мировом пространстве бесчисленные звезды и планеты, никогда не замедляют своего движения. Только силой этого движения, силой инерции держатся в мировом пространстве невыразимо тяжелые тела, как держится в воздухе тяжелый, сорокадюймовый снаряд». И далее: «в вихрях многовековых движения разрушаются и вновь возникают бесчисленные звездные миры и свершается великий процесс эволюции, высшее движение по вселенной». Многогранная эрудиция православного ортодокса волей-неволей залетает в индуизм, где постоянно мерно разрушаются и возрождаются миры. Его Высокопреосвященство спохватывается и заявляет: «Духовная энергия… от Духа Божия… движет всей природой и все животворит».
Так кто же или что же движет мирами: «великий процесс эволюции» или Господь?
Понятие «эволюция» архиепископ почерпнул у Анри Бергсона.
Когда он произносит слово «Бергсон», у него будто у экспериментальной собаки Павлова (Владыка отвел ей достойное место на страницах своего лукавого трактата), у которой при виде мяса немедленно выделяется слюна, текут с языка одни комплименты: у Бергсона «идеи удивительной и глубоко жизненной философии», «он проложил совершенно новый путь к познанию жизни», он «великий метафизик»! Мысли Бергсона почти полностью совпадают с учением Павлова о высшей нервной деятельности!
Что думают о Бергсоне люди не меньшего энциклопедического калибра?
О. Сергий Булгаков находил в творчестве Бергсона «самый крайний… беспардонный пример эволюционизма» (С. Булгаков, «Трагедия философии», М., 1993, с. 424). Н. Бердяев чистосердечно смеялся над главным сочинением Бергсона, а Жак Маритен считал бергсоновскую интуицию подделкой под псевдометафизику («Путь», №2, 1926, с. 68, переиздан в Москве в 1992 г.).
Бахрома интуиции Бергсона застилала глаза Владыки, который не замечал, что его кумир рассматривал «главную функцию вселенной как машину для создания богов». В работе «Два источника религии и морали» (М., 1994) Бергсон, приняв католичество, развязно утверждал: «с точки зрения, которой мы придерживаемся и из которой возникает божество всех людей, несущественно, зовется Христос человеком или не зовется. Неважно даже, что он зовется Христом».
Никогда еще божество всех дикарей или цивилизованных персон не возникало «из точки зрения», только у Бергсона! «Никогда еще философия не выглядела более зыбкой, более ценной и более страстной, чем в то мгновение, когда один зевок рассеял в открытом рту Бергсона существование Бога» (Морис Бланшо, «Танатография Эроса», СПб., 1994).
Не будем заострять внимание на том, что по выводу экспертов в МП различение души и духа вовсе не есть метафизическая аксиома, что тройственный духовно-душевно-телесный состав человека не признает господствующая доктрина католичества (а нам какое дело до католиков?), что, наконец, «король философов» Мартин Хайдеггер не принимает определение сущности человека через традиционную трихотомию: сим способом бытие как таковое непостижимо.Мы адресуем восторженного потребителя архиерейского таланта к самому трогательному, к главе шестой под названием «Дух не безусловно связан с душой и телом», где православный архипастырь привлекает себе на помощь не только гипноз, но и оккультизм, примитивное столоверчение! Он описывает, как у него в зобу дыханье сперло, когда увидел, как «поднялась при дневном свете со стола изящная рука и подала цветок одному из присутствующих на спиритическом сеансе»!
«Мы были бы хуже, чем трусы, мы стали бы изменниками, если бы вздумали призывать заблуждение на помощь себе в проповеди истины и если бы, потеряв веру в божественную силу Церкви, стали бы искать содействия немощи и лжи» (Н. Бердяев, «Алексей Степанович Хомяков», М., 2007, с.308).
Понятие «оккультизм» (буквально: то, что спрятано) ‒ кинжал в рукаве для харакири Библии. Божие откровение напрочь запрещает общение с невидимыми духами и силами. «Мужчина ли или женщина, если будут вызывать мертвых, … да будут преданы смерти» (Левит, 20, 27). Знает это Его Высокопреосвященство? Несомненно. Ибо цитирует не только Левит, но и Второзаконие: «Не должен у тебя находиться обаятель, вызывающий духов» (18. 10-11). Из каких же благих намерений попирает табу, тщетно пытаясь опереться на авторитет всероссийского старца Амвросия? Однако «святые отцы…, такие, как старец Амвросий Оптинский, учат, что существа, с которыми общаются на спиритических сеансах, ‒ бесы, а не души умерших; и те, кто глубоко изучал спиритические явления, если они имели для своих суждений хоть какие-то христианские мерки, приходили к тем же выводам» (Иеромонах Серафим (Роуз), «Душа после смерти», Киево-Печерская лавра, 2006, с.25). Не менее суров о. Павел Флоренский: оккультизм, спиритизм примыкают в разной степени к люциферизму: «тут мы имеем дело с самым страшным и могучим врагом христианства… Признать спиритическую религию есть только первый шаг, а дальше покатишься с ереси на ересь и логически, и нравственно, – непременно прикатишься к культу антихриста».



