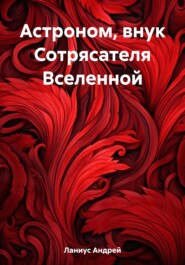скачать книгу бесплатно
И вот через считанные месяцы после смерти великого эмира в стране, которую ее создатель считал “образцовой державой”, наступило то, о чем Тимур не мог помыслить даже в страшном сне – великая смута.
О борьбе, в которую включились законный наследник и двое самозванцев, хотя и царского рода, можно рассказывать очень долго.
Эта борьба шла с переменным успехом и имела множество драматических нюансов, пока всем не стало ясно, что ни один из претендентов не в силах одолеть двух других.
Но вот тут-то нежданно для ее участников на арене событий появился тихий и богобоязненный Шахрух.
Младший сын великого эмира словно бы только сейчас вспомнил, что по табеле о рангах он тоже имеет право на верховную власть.
Борьба за престол
Историк 21 века разговаривает с читателем 21 века
– Мираншах, если вы помните, был признан безумцем, а потому не имел никаких шансов занять престол. Правда, он тоже включился в борьбу, но всего лишь за сохранение власти в своем маленьком уделе, на который тоже объявился претендент. При этом Мираншах попросил у брата подкрепления для своих войск, то есть косвенно признал его главенство. Между прочим, вам полагаю, это покажется интересным, но Мираншах похоронен в Гур-Эмире тоже обезглавленным.
– Как, он тоже шахид?!
– Нет, поскольку считается павшим на поле боя. Хотя, полагаю, его смерть была еще ужасней, ведь голову ему отрезали кинжалом. Это настоящий исторический детектив, разгаданный, спустя пять веков. Но историю Мираншаха нужно рассказывать отдельно.
– Полагаю, к ней мы еще вернемся, но позже. Ладно, всё, молчу! Продолжайте!
– Возвращаемся к нашим баранам. Вспышка нежданной активности Шахруха может немало подивить, если не вспомнить при этом, что рядом с ним находилась поистине выдающаяся интриганка своего времени Гаухар-Шад, имя которой переводится с персидского двояко. Это и “жемчужина”, и “сверкание меча”. Придворные поэты не уставали на все лады обыгрывать эту тему: в ее глазах не только сияние жемчуга, но и блеск меча!
О том, что главную партию в последующей борьбе вела именно Гаухар-Шад, говорит то обстоятельство, что Шахрух, имея значительное войско, почти не вступал в сражения, действуя методами дипломатии, подкупа и закулисных интриг, более свойственных его дражайшей супруге.
В отличие от других участников этой исторической драмы, Шахрух повел себя как искусный политик.
Он заключил союз с законным наследником, своим племянником Пир-Мухаммедом и всячески декларировал свою верность заветам великого эмира Тимура, что придавало его собственным действиям легитимность. Но ввязываться в военные действия гератский правитель не спешил.
Тем временем, ветреный принц Хусейн продолжал свой поход на Самарканд, пока не встретил на своем пути войско Халиля.
Жаркая битва закончилась победой Халиля.
Впрочем, потерпев поражение, Хусейн не особенно унывал, рассчитывая поправить свое положение, как всегда, посредством очередного авантюрного кульбита.
Внезапно он объявился в Герате, уверенный в том, что родной дядюшка страшно обрадуется нежданно обретенному союзнику и тут же вручит ему крупное войско.
Бедолага так и не понял, что ввязался в игру, для которой установлены совсем другие правила.
Дядя Шахрух воздал племяннику по заслугам.
Вечный перебежчик и дезертир, посмевший нарушить завещание основателя империи, был арестован и предан суду, который приговорил его к смертной казни, как государственного преступника.
Кожу его головы, набитую травой, “тишайший” Шахрух послал законному наследнику, а отдельные части тела казненного были выставлены на всеобщее обозрение на гератских базарах.
Итак, из большой игры выбыл один претендент, правда, самый незначительный.
Вдобавок, Шахрух показал своим подданным, что он хоть и строг, но справедлив, ибо ставит закон выше родственных отношений.
При этом Шахрух продолжал выпячивать мнимое лидерство Пир-Мухаммеда.
Замысел Шахруха был прост: столкнуть лбами двух оставшихся претендентов и посмотреть, чья возьмет.
Шахрух даже послал Пир-Мухаммеду военное подкрепление во главе со своим сыном Улугбеком, которому не исполнилось еще и 14-ти. Конечно, командирский пост Улугбек занимал формально, а все приказы от его имени отдавали прикрепленные к нему советники отца. Однако сам факт посылки войска был призван убедить наследника, что его дядюшка готов последовательно выполнять условия их договора.
Сам Шахрух благоразумно оставался в Герате.
В течение довольно продолжительного времени оба войска избегали стычек, вроде футбольных команд, заранее согласных на ничью.
Но вот решающая битва все же состоялась.
Победа снова осталась за Халилем.
Похоже, у этого парня действительно был немалый военный талант стратега.
Пир-Мухаммед, сломя голову, бежал в свой обожаемый Балх, а Улугбек с советниками помчался к отцу, в Герат.
Пир-Мухаммед быстро утрачивал последние крохи авторитета.
Несостоятельность законного наследника, как единодержавного государя, стала очевидной для всех. И знатные вельможи, и простые люди задавались вопросом: если этот правитель оказался настолько слаб, что так и не сумел взойти на престол, принадлежавший ему по праву, то надо ли его поддерживать впредь?
Похоже, этот царевич превратился в лишнюю фигуру на политической доске.
Надо ли удивляться тому, что в самом скором времени, а именно 22 февраля 1407 года, Пир-Мухаммед был убит одним из приближенных в своем собственном дворце!
Очень своевременная смерть! Мавр сделал свое дело!
Шахрух тут же объявил себя мстителем за наследника и овладел Балхом, присоединив его вместе со всеми ресурсами к своим владениям.
Отныне на верховную власть в стране претендовали только двое: Шахрух и Халиль.
Молодой правитель Халиль по-прежнему располагал более значительными военными силами. Используя сокровища Тимура, он мог исправно платить жалованье своим генералам, офицерам и солдатам.
Он начал энергично готовиться к большой войне с Шахрухом, не замечая того, что атмосфера в стенах его собственного дворца разительно переменилась.
Слишком неопытный, как политик, слишком доверчивый и великодушный, он, видимо, не догадывался, что судьбы империй решаются не столько на полях сражений, сколько за кулисами текущих событий.
Вдруг оказалось, что все его окружение ненавидит столь обожаемую им Шади-Мульк. Жена молодого правителя стала персонажем хлестких анекдотов, которые рассказывали на всех самаркандских базарах. Утверждали, что она раздает своим слугам не только высшие государственные должности, но даже вдов и наложниц Тимура, и вконец разорила казну.
Да и чего можно ожидать от обыкновенной шлюхи, пусть даже она называет себя султаншей!
Отголоски сплетен затрагивали честь Халиля.
Еще недавно всеми почитаемый, он превратился в объект затаенной неприязни.
Весной 1409 года Халиль отправился с небольшим отрядом в поездку по северным областям.
По дороге его схватили и выдали людям Шахруха, которые, как оказалось, всё время находились рядом.
А спустя какое-то время и сам Шахрух въехал в Самарканд как победитель.
Народ встречал его с энтузиазмом.
Ведь шел уже пятый год осточертевшей всем междоусобицы, и люди готовы были признать власть кого угодно, лишь бы тот обеспечил на этой земле мир и покой.
Прежде всего, Шахрух посетил могилу отца, вновь совершив траурные обряды.
При этом он велел убрать из мавзолея и передать в казну все находившиеся там сокровища, наличие которых, как он считал, противоречило правилам ислама.
Ветеранам военных походов это решение нового правителя не понравилось, но они ограничились лишь глухим ропотом.
Затем Шахрух принялся вершить суд, скорый, но справедливый.
Казнить самого Халиля он всё же не решился и отправил его правителем в маленький городок в глуши. Но все приспешники самозванца были повешены либо обезглавлены. Шади-Мульк подвергли пыткам, а затем водили ее на аркане по самаркандским базарам, после чего всё же вернули Халилю.
Понятно, что оставлять эту парочку без присмотра было никак нельзя.
В самом скором времени Халиль, цветущий, полный сил молодой человек, вдруг заболел и умер, а Шади-Мульк якобы в знак скорби покончила с собой, приняв яд.
Такова была официальная версия, в которую, однако, мало кто верил.
Итак, вопреки воле самого Тимура, вопреки ожиданиям сведущих людей, у руля огромной державы оказался Шахрух, победивший в многолетней напряженной схватке. Одно из двух: либо в нем расцвели недюжинные таланты государственника, никак не проявлявшиеся при жизни Тимура, либо за победой Шахруха стояла его неугомонная женушка, к рассказу о которой мы еще вернемся.
Так или иначе, но за исключением нескольких отколовшихся окраинных провинций, в руках Шахруха оказалась вся держава, созданная Тимуром.
Со смутой было покончено, все уцелевшие царевичи и эмиры присягнули Шахруху на верность, видя в нем вполне компромиссную фигуру.
Но Шахрух категорически не хотел оставаться в Самарканде.
Его сердцу милее всего был Герат, куда он и собрался вернуться.
Править в Самарканде Шахрух оставил старшего сына Улугбека, которому в эти дни исполнилось пятнадцать, и который провел значительную часть периода смуты в Герате, во дворце отца.
Конечно, в столь юные годы еще рановато принимать важные государственные решения, поэтому при Улугбеке Шахрух оставил двух эмиров-опекунов, дав им соответствующие распоряжения.
Восстановив единство государства и утвердив спокойствие в умах, Шахрух в сопровождении любимой жены, внушительной свиты и еще более внушительной армии отбыл в свой любимый Герат, к богословам и муллам, по общению с которыми он уже соскучился…
Тонкости титулов
Пышные восточные титулы – хан, шах, падишах, султан, эмир, бек – большинством европейцев воспринимаются как синонимы.
Однако между ними, этими титулами, есть существенные различия.
Ханом в эпоху Тимура могли именоваться только потомки Чингисхана.
Этот титул считался наиболее знатным, его нельзя было купить, заслужить, присвоить, а можно было получить лишь по праву рождения.
Позднее, когда Тимур достиг зенита славы и могущества, нашлись придворные угодники, по поручению которых была составлена фальшивая генеалогическая схема, возводившая линию предков Тимура к одному из близких родственников Чингисхана.
Однако же сам Тимур отверг эти сомнительные изыскания.
В фальшивой славе он не нуждался, ему было достаточно той, которую он завоевал своим мечом.
Тимур вполне довольствовался титулом “эмир” (по-арабски “амир”), принятом во многих мусульманских странах, но имевшим в разных местах свои оттенки.
В военизированной державе Тимура этот титул чаще ассоциировался с понятием “военачальник, полководец”. Эмиров было много. Но Тимур стал единственным великим эмиром, то есть, “великим полководцем”, и гордился этим титулом.
Если стать ханом по желанию было невозможно, то отнюдь не возбранялось стать ханским зятем – “гурганом”, для чего требовалось взять в свой дом его дочь.
Что и сделал Тимур, женившись на дочери хана Казагана, которую звали Сарай-Мульк-хатун.
Титул “гурган” также считался в высшей степени почетным, предметом гордости того, кто его носил.
“Великий эмир” и “гурган” – в большинстве средневековых хроник имени Тимура сопутствуют именно эти два титула.
Следует отметить и то обстоятельство, что Тимур формально не являлся первым лицом в государстве. Еще бытовала монгольская традиция, и Тимур не стал ее отменять (это сделают его потомки), согласно которой на престоле в обязательном порядке полагалось восседать хану-чингизиду.
Тимур и посадил на трон “хана-бездельника”, давно уже утратившего реальную власть, да и не претендующего на нее. Однако монеты чеканились с профилем этого хана, а его имя первым произносилось на пятничных молитвах. Вместе с тем, вздумай этот хан по глупости “качать права”, как был бы незамедлительно сброшен с трона и заменен на более покладистого преемника.
Похожий порядок позднее существовал в Советском Союзе, когда по конституции первым лицом государства считался Председатель Верховного Совета, но вся полнота реальной власти принадлежала генеральному секретарю партии.
Вот и Тимур был своего рода “генсеком” военной партии.
В сочинениях, принадлежавших перу иранских и европейских хронистов, Тимура нередко именуют также “султаном” и “падишахом” в значении “монарх”.
А кастильский посол Руи Гонсалес де Клавихо называет его в своих записках совсем уж невообразимым титулом – “великий сеньор Тамурбек”.
Сам Тимур пользовался “королевскими” титулами чрезвычайно редко, да и то лишь при внешних сношениях.
Один такой случай произошел в 1391 году, когда Тимур двинулся через казахские степи в поход на Золотую Орду, к Самарской излучине.
Где-то на середине пути он совершил странный ритуал, до сих пор не разгаданный историками.
Поднявшись на вершину горы Улуг-таг, он осмотрелся с высоты, а затем велел высечь на запримеченном здесь же камне надпись на уйгурском и арабском языках, извещавшую о том, что в год овцы султан Тимур отправился с двумястами тысячами воинов, имени своего ради, по кровь Тохтамыша хана.
Этот камень обнаружили только в 30-х годах прошлого века и отправили в Эрмитаж, где его можно увидеть и сегодня в одном из восточных залов.
Итак, в своих владениях Тимур именовался, как правило, двумя титулами, которыми сам он дорожил в равной степени, – “великий эмир” и “гурган”.
Его потомков стали называть “эмир-заде”, то есть, “сын эмира”, а сокращенно “мирза”.
Титул “мирза” носил и Улугбек.
Вообще-то, настоящее имя Улугбека, полученное им при рождении, было Мухаммед Тарагай.
Между прочим, факту рождения этого младенца обязаны своими жизнями десятки тысяч жителей города Мардина в Ближней Азии, которых Тимур уже готов был предать лютой казни за их сопротивление. И как раз тут прискакал гонец, сообщивший, что у Гаухар-Шад, жены Шахруха, родился мальчик.
Тимур, лелеявший мечту о переустройстве мира под эгидой своей Семьи, настолько обрадовался, что не только помиловал обреченных горожан, но и велел вернуть им все отобранное имущество.