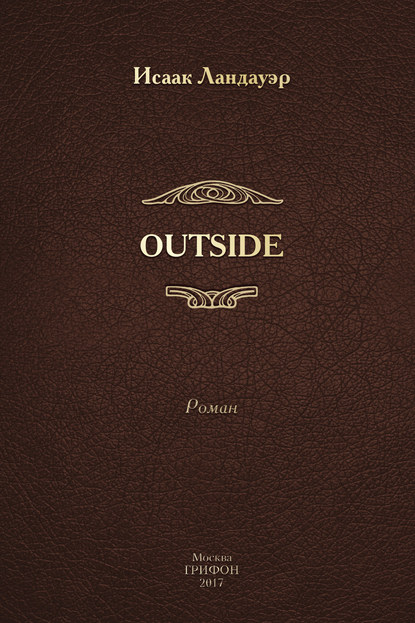
Полная версия:
OUTSIDE
Тогда же уличному певцу открылось, что Рим имеет «оконечность», что-то обратное от завершённости, но притом круглое.
Тут его погнали с площади карабинеры, и он ничего уже не смог разобрать, кроме того, что умудрённый жизнью любитель молоденьких девочек, будучи частенько отставленным, бродил ночами вокруг Капитолийского холма – путь, к слову, неблизкий, покуда очередная, устоявшая под натиском его обаяния красотка мерно посапывала на двуспальном любовном ложе. Бывало, что особенно невосприимчивые к философии стареющего жизнелюба не снимали в постели даже верхнюю одежду, но это уже оставалось на совести воображения Рони, который, однажды заработав по прихоти одного щедрого русского двести евро, пригласил знакомую в ресторан при отеле, где предусмотрительно снял баснословно дорогой номер. Из многих ярких впечатлений того дня, среди которых преобладало унижение, ему отчего-то запомнился сильно пьяный и дурно одетый сибирский медведь, что швырял деньгами, хлебая из горла тончайшую виноградную симфонию Baccarossa одиннадцатого года. Не столько, в общем-то, он, сколько божественно красивая женщина, смиренно ожидавшая завершения привычного, судя по усталому, но отнюдь не удивлённому выражению её лица, ритуала знакомства с культурными достопримечательностями. Дыша перегаром и держась, в надежде сохранить равновесие, за тщедушную фигуру Рони, неутомимый гуляка требовал от него исполнить какую-то тарабарщину на родном языке, что-то про центральную станцию – наверное, вокзала или метро, и угомонить поклонника славянского фольклора не было никакой возможности. Когда, наконец, с последним глотком отправилась в его бездонное нутро завершающая треть бутылки, и во весь рост встала проблема дозаправки, изобретательный мужлан достал зажигалку, затем извлёк из смятой пачки наличных купюру в пятьсот евро, ударил ею по носу опростоволосившегося исполнителя и демонстративно сжёг, бросив пепел в футляр от гитары, на дне которого к тому времени уже покоились две бумажки по пятьдесят и одна сотенная. Оскорблённый, он хотел было забрать обратно и их, но подоспевшая вовремя подруга схватила его под руку и с силой, неожиданной для своей сказочно тонкой фигуры, рванула на себя. Медведь, ко всеобщему удивлению – а собралась уже небольшая толпа, немедленно повиновался, пробормотал что-то на своём варварском наречии и, поддерживаемый сексуальной подругой, зашагал прочь. Напоследок та, видимо, желая извиниться, подарила чуть было не оставшемуся совсем без заработка Рони взгляд, полный такой нежности, что секунда та уверенно заняла верхнюю строчку в перечне лучшего, что случалось с ним за прошедшие тридцать восемь лет, то есть с тех пор, как он себя помнил.
Подобных эпизодов у всякого уличного барда не счесть, но герой Мити, в отличие от коллег по цеху, умел искренне порадоваться хорошему, что, хотя и редко, но всё-таки с ним случалось. У него даже был для этого специальный дневник, куда он записывал всё, что стоило бы иногда вспоминать и, когда на душе становилось совсем уж тоскливо, перечитывал лучшие главы летописи собственной жизни. Теория наполовину пустого и полного стакана, хотя бы в нём было и вовсе на донышке, нашла в лице одинокого нищего гитариста, уже примерявшего статус бездомного, наиболее причудливое своё воплощение. «Сколь бы ни казалось всё плохо, – рассуждал тот, – всегда есть надежда, что завтра будет лучше. А коли брюхо набито, то и вовсе горевать не о чем – у сытого никто не отнимет его снов, в которых он обязательно получит всё, что пожелает». «Мировоззрение жалкого ничтожества, недостойного коптить небо», – уже обездвиженная и готовившаяся умереть напоследок поделилась с ним по этому поводу мать, но стоит ли принимать во внимание мнение той, кто за долгие годы не познал и мгновения искренней радости.
В этой истории нашла отклик Димина обида на собственную мать, вечно занятую женщину, полагавшую – и совершенно этого не скрывавшую, его бестолковым оболтусом, нескончаемым источником хлопот и расстройств, позором семьи и наказанием за какие-то давние, покрытые завесой тайны, грехи. Будучи ребёнком, то есть поначалу ещё пребывая в мире иллюзий, он как-то пытался заслужить её похвалу, но, повзрослев, бросил неблагодарное занятие, сосредоточившись на собственных проблемах, благо у него их всегда оказывалось с избытком. Страх, что подобная участь постигнет и его будущих детей, во многом обуславливал чрезмерную избирательность при выборе подруги жизни, и одиночество сделалось его единственным верным спутником. Человеку свойственны крайности, и воспитание превращается то в безмерное чадолюбие, порождающее избалованных нарциссов, то в марафон претензий к неблагодарному отпрыску, и тут уж личность развивается как придётся. Диме досталась самостоятельность вкупе с умением надеяться лишь на себя, но довеском шла и закомплексованность, неуверенность и вечно заискивающий взгляд – набор достаточный, чтобы гарантировано избавить мужчину от всякой возможности подняться выше уровня захудалого середняка. Ему и это удавалось плохо: за тридцать лет он успел лишь обзавестись ремеслом, съёмной халупой на окраине Москвы, репутацией незаменимого работника и подержанной иномаркой с правым рулём – весь нехитрый багаж на излёте первой половины жизни. Впрочем, не стоило забывать про Милу, а заодно про трёх близких до неприличия друзей, столь же верных, сколь и нематериальных. «Отче наш, иже еси на небеси», – слышал он ребёнком в церкви, но его небо было всегда при нём и населено, к тому же, личностями куда как более интересными, нежели троица занудных праведников, чинно восседающих на кучевых облаках. Места для бога, таким образом, в душе уже не осталось, хотя библейские истории, в вольном пересказе и с крамольными подробностями, он очень любил, но этим тяга к вере отцов исчерпывалась. Их классный руководитель, историк Денис Алексеевич, последние два года до окончания школы был ревностным атеистом, позитивистом и яростным антиклерикалом, так что в информации недостатка не ощущалось. Невысокого роста, сам будто ещё школьник, их авторитетный вождь, будто проповедь с амвона, вещал о преступности идеи Бога, том опасно развращающем действии, что оказывает она на неокрепшие детские умы, и полезности соответствующего воздержания. Обратную сторону медали, то есть радости бренной плоти, он ожидаемо превозносил и даже организовал кружок любителей альтернативной истории, где под вывеской интеллигентной полемики с давно ушедшими корифеями приобщал молодёжь к здоровым, без налёта ханженства, удовольствиям. На этих собраниях действительно много говорилось, декламировались стихи, обсуждали Шаламова и клеймили Солженицына, зачитывались Апулеем, скабрезничали о Пушкине… всё бы ничего, но и прильнуть в меру к виноградной лозе, в отечественном исполнении – поллитре, не возбранялось, а после скрыться за шкафом для более основательного единения двух сердец – тоже. Финалом стало обвинение покровителя молодёжи чуть не в растлении несовершеннолетних, хотя вся корысть того заключалась в невинном желании подвизаться на службе у яркой, бескомпромиссной юности, чтобы хоть немного, но урвать второй молодости и самому. Педагога заставили написать по собственному, а родительское собрание утвердило ему на смену кандидатуру полноватой неповоротливой дамы за пятьдесят, обладавшей единственным ценным навыком в виде умения цитировать учебники и пособия, но зерно сомнения было уже посеяно в детских сердцах и РПЦ скомпрометирована навсегда.
Глава VII
Свет отключили, настало время отбоя, но Дима никак не мог заснуть. Размышляя о том, что привело его в столь неприветливые стены, не грезил о втором шансе и не жалел о содеянном. Повторись всё снова, он непременно сделал бы то же самое, вопреки здравому смыслу, законодательству и десяти заповедям. Вообще-то всякие там догматы он уважал, вёл тихий, бесконфликтный образ жизни, разве что вступился пару раз за девушку в тёмном переулке, но последние годы в Москве и это сделалось почти историей: всюду понавешали камер наблюдения, по дворам сновали милицейские патрули на новеньких ситроенах, и правонарушения спешно переместились в область дорожных разборок на тему – кто кого подрезал да кто кому не уступил. Замок на железной двери – снаружи, как символ отсутствия свободы передвижения, – мало его занимал. Волновало другое, до смешного мелкое, неприятности сугубо бытового плана: не «позаимствуют» ли хозяева квартиры его дорогой инструмент в счёт уплаты причитающейся арендной платы, что станет с наработанной годами клиентской базой, когда замолкнет надолго его телефон, и куда он вернётся, когда всё это кончится.
Главный вопрос: что станет с его Милой – Дима гнал от себя как безусловно преждевременный, хитрая уловка, которая пока что работала; ведь по совести, единственное, чем страшила его перспектива сурового наказание, была вероятность потерять её. Уже почти месяц он пытался набраться смелости написать ей письмо, где наконец-то признаться во всём, и даже набросал вполне пригодный черновик, но переписать набело и, тем более, отправить – не смел. Ждать, надеяться такая девушка явно не станет, у неё довольно занятий поинтереснее, равно как и ухажёров не за решёткой, но и молчать дальше было невыносимо. Разум подсказывал дождаться решения суда, когда участь его, наконец, прояснится и, следовательно, пропадёт, быть может, и сама надежда быть когда-либо с ней рядом. От подобной перспективы веяло каким-то совсем уж могильным холодом, но в то же время и желанной определённостью. Ведь в глубине души он давно смирился с тем, что бесценное сокровище никогда ему не достанется, и гораздо большей пыткой было бы ежедневно находиться с ней рядом, каждое мгновение, с каждым вздохом осознавая это всё отчетливее. Ведь он лишь жалкий штукатур, чей жизненный путь уже определён, и с годами ему вряд ли удастся вырваться из порочного круга обыденности, а она… она божественно прекрасна, один её запах сводит с ума, а её редкие случайные прикосновения останутся в его памяти навечно. К несчастью, Диме не удалось пройти заочную школу чувственности от Пэппи Длинный Чулок до Стендаля, чтобы задуматься о никчёмности собственных претензий на поэтическую возвышенность чувств, ужаснуться банальности переживаний, испугаться, удивиться и пережить ещё кучу эмоций, дабы прийти к единственно верной – смеху. Потому что его страсть оказалась не более чем смешной, и лишь в здоровой иронии содержалось доступное средство излечения, но панацее суждено было остаться невостребованной.
Караульный, шаркая, прошёл в конец коридора, и звук удаляющихся шагов напомнил Диме о необходимости хоть немного вздремнуть – подъём был уже близко. Не то чтобы ему так уж нужна была эта бодрость, грядущий день из приятных эмоций обещал разве что прогулку, недолгое хождение по кругу плюс возможность взглянуть на решётчатое небо, но и это тоже немало. Его мир остался прежним: то же непропорциональное сочетание положительных, нейтральных и отрицательных эмоций, разве что для сильного приятного переживания теперь достаточно было увидеть луч солнца или найти в баланде кусок подозрительной субстанции, что после тщательного всестороннего анализа оказывался-таки действительно мясом. С каким замиранием сердца исследовал он такие вот находки, стряхивая с объекта исследования переваренную, местами гнилую капусту, подносил к свету, рассматривал, надеялся и верил. Результат, соответственно, определял настроение на весь оставшийся день, как всего несколько месяцев назад то же определялось числом бесценных секунд, проведённых наедине с нею в тесноте их общего предбанника, куда он специально затащил велосипед и несколько упаковок напольной плитки, чтобы, протискиваясь в нагромождениях хлама, как бы случайно дотрагиваться до прекраснейшего на свете создания. С тем же успехом он мог бы, затаив дыхание, следить за поведением частиц в адронном коллайдере, готовясь открыть миру очередную ненужную истину или, рискуя жизнью, прививать африканских детей от полиомиелита – бесчисленное множество результатов при общности мотивации. Кусок белковой массы в жидкой похлёбке и вопль наблюдателя: «Земля», доносящийся с грот-мачты «Санта-Марии», дарили подозрительно схожие ощущения, и стоило ли в таком случае тащиться открывать далёкий континент. Несмотря на жестокость, с которой благородные конкистадоры насаждали в шестнадцатом веке европейскую культуру, Дмитрию нравилась эта часть мировой истории, и он собирался уже добавить к перечню образов красивого решительного идальго, отправившегося к чёрту на кулички за мечтой о туго набитом кошельке, когда заключение в СИЗО лишило его доступа к информации, без которой детально продумать нового героя не представлялось возможным. Конечно, можно было и пожертвовать исторической справедливостью ради эффектной выдумки, но в таком случае получилась бы уже не фантазия, а самая обыкновенная сказка – компромисс совершенно, очевидно и безусловно не приемлемый. Тюремные правила запрещали пользование мобильными телефонами, хотя многие, он знал, каким-то образом – впрочем, известно, каким, успешно обзавелись полезным девайсом и потому вовсю наслаждались связью с внешним миром. Бесценный канал существовал, по большей части, для переписки в социальных сетях и заочного романтического ухаживания за наиболее доверчивыми представительницами молодёжи с тем, чтобы по выходу на свободу тут же приступить к основной фазе отношений. Столь бездарное использование хранилища человеческих знаний искренне удивляло, но музыку традиционно заказывал тот, кто имел возможность платить, а одинокий бессемейный мастер по ремонту квартир к таковым явно не принадлежал.
Рассвет застал его за диалогом Игоря с новым клиентом. Последний был достаточно наблюдательным, чтобы заметить на руке продавца часы куда дороже его собственных, и потому тон покупателя был подчёркнуто уважительным.
– И кто же тот кудесник, что отвечает тут за закупки?
– Кудесников, к сожалению, нет, – Игорь как всегда обаятельно улыбнулся. – Есть только я. Приземляюсь, к примеру, в Марселе, беру машину напрокат и – вперёд колесить по просторам: от Прованса и на запад, чтобы, подобно нашим предкам из недалёкого прошлого, остановиться только у самого океана. Правда, Атлантического. Ну так я же и не диктатуру пролетариата насаждаю.
– А как, если не секрет, с доставкой? Не подумайте чего, всего лишь простое любопытство.
– Ну, если простое, то отчего бы и не рассказать. Подсовываю крупным поставщикам, что гоняют фуры через границу, у них всё равно идёт оплата – как официальная, так и нет, с машины, а акцизных марок идёт на заявленное количество. Так что законность на высоте: государство не в убытке, все довольны.
– И дело прибыльное? Конкуренция ведь большая.
– Вы, никак, хотите число тех конкурентов пополнить, – Игорь снова раздвинул уголки рта, давая понять, что шутит. У него имелся целый калейдоскоп улыбок, B2B научил его демонстрировать клиентам на переговорах всю палитру верноподданнических чувств, так что одной мимикой он уже при случае мог, наверное, озвучить и подробное ценовое предложение. – Это, конечно, пожалуйста, рынка на всех хватит. У нас же как: берут, шо подороже да пошикарнее, банально сверяясь с графиком меллезимов, вот и вся тактика. Про стратегию уж и не говорю. А вино нужно обновлять ежегодно, каждую осень отправляться на поиски и пить, пить до буквально посинения, чтобы по возвращению всерьёз тянуло полежать недельку-другую под капельницей. Вину достаточно пару лет, чтобы существенно изменить свойства, и чаще не в лучшую сторону. То есть, всяких там благородных оттенков и послевкусиев, конечно, прибавится, но вкус и, главное, опьянение, будет уже другим. Его нужно пить здесь и сейчас, это гимн настоящему, единственному богу, которому стоит молиться, и хранят его только недалёкие, ленивые или дураки. Возьмём этот Пессак, – Игорь достал откуда-то из-под полы бутылку, – напиток исключительный по свойствам, хотя бы и вкус достаточно посредственный: через два года ему стукнет десять, и тогда он превратится в кисловатую дребедень с претензией на аристократичность, но в данный момент гарантирует незабываемые ощущения от процесса. Рекомендую. Тем более, что и цена приемлемая.
– Более чем. А что же тогда будет, если выбрать подороже?
– Примерно то же самое.
– Извините, не понял. В таком случае, зачем переплачивать – ведь в пять раз дороже.
– Исключительно для тех, кто может себе позволить. В этом холодильнике, – Игорь, не глядя, махнул рукой вправо, – вино, скажем так, категории х. Отменное и, для подобного качества в границах нашей доблестной отчизны, весьма недорогое. То, что слева, будет лучше, скажем так, на треть, в лучшем, если уж баснословно повезёт, случае – наполовину. Но, когда денег у человека достаточно, он охотно переплатит за эти проценты и гораздо больше. Сам не пробовал, но, думаю, если прибавить к этой категории ещё десятую часть, поверьте, и без того незабываемых ощущений, то цена легко перевалит за тысячу евро уже в закупке, и, тем не менее, желающие найдутся в избытке. Здесь нет места привычной экономике, всякому там спросу и предложению. Это законы для гамбургеров, а в этих бутылках – концентрированное счастье.
– И вам нравится это счастье людям дарить?
– Мне нравится отдушина. Когда основной бизнес – это вечные тендеры, базарные склоки со временем надоедают. Здесь я перед клиентом не голый, он не может выкручивать мне руки, говоря, что вот там – дешевле, а вот здесь ему предлагают откат. В этих стенах – «оставь надежду, всяк сюда входящий», иными словами, засунь себе в задницу – это я не лично вам, конечно, – свою математику, бери с полки – бери, а не выбирай, порцию эйфории и дуй наслаждаться жизнью. Я хозяин Суэцкого канала, понимаете: хочешь – иди вот туда и плати, не хочешь – дуй через всю Африку. Мечта любого бизнесмена.
– Надо думать, бывало и так, что особенно настырных и требовательных покупателей взашей выставляли?
– Нет. К требовательным у меня претензий нет, меня раздражают знатоки. В такого размера кавычках, что удивляешься, как в дверь проходят. Этих – да, деликатно прошу вверенное помещение покинуть, они обо мне потом всякую дрянь в сети пишут. Что поделать, самый уязвимый народ эти наши подчёркнуто интеллигентные псевдо-интеллектуалы. Особенно, если с бабой.
– Всё же думаю, – улыбнулся уже покупатель, – положительных отзывов много больше.
– Вот сразу видно, что вы у нас в первый раз. Ни одного. Какой дурак станет рекламировать подобное место. Тут – чем меньше народу знает, тем лучше: ассортимент целее и закорючки на ценниках стабильнее. За то и люблю сие милое детище – моё личное надругательство над законами рыночной экономики, моя ей личная месть.
– Потрепала?
– Было дело, но уже, к счастью, далёкое прошлое. Однако за преждевременные, хотя и редкие, – скосив взгляд в сторону зеркала, добавил Игорь, – седые волосы с судьбой никогда посчитаться не поздно, как вы считаете?
– Всецело поддерживаю, – спешно перенимая тон разговора, ответствовал покупатель. Глеб был москвич из приезжих, дослужившийся до участвовавшего в прибылях управляющего рестораном, и лично приехал осмотреть лавку, где один постоянный и желанный гость их весьма недешёвого заведения регулярно закупался вином, которое ему одному было дозволено приносить с собой. Выдуманного по такому случаю пробочного сбора с лихвой достало бы на лучших представителей их коллекции итальянцев, но клиент был неумолим. Разгадкой этой тайны и занимался теперь опытный ресторатор, который больше всего ценил собственную репутацию знатока всего лучшего в мире алкоголя и гастрономии. Стоявший за прилавком был ему хорошо знаком – редкий, но запоминающийся тип пресыщенного фанатика, если подобное сочетание слов вообще уместно, но ничего лучше он придумать не мог. Такой находит себе увлечение под стать – не горные лыжи или что-нибудь другое нарочито экстремальное, но нечто, отвечающее потребностям натуры, отражающее философию, подобно тому, как художник стремится выразить собственное мировоззрение на холсте – Глебу было свойственно выдавать желаемое за действительное. – Однако вы избрали, – он уловил страсть нового знакомого к слегка вычурной речи, – весьма оригинальный способ.
– Да как-то само так пришлось. Выпил хорошего вина и вот, задумался, – разрушив столь трепетно созданный образ, промычал себе под нос Игорь, разговор, видимо, стал ему надоедать.
Резкие смены настроения были частью его характера, точнее – стали, когда тюремный быт внёс в неспешное расписание Димы некую долю хаоса: то на допрос, то внезапная проверка или обыск. Пенитенциарная система, как часть всякой карательной машины в России, страдала лёгкой паранойей: начальству всюду мерещились подготовки бунтов, хитроумные планы побегов, а иногда даже покушение. Информаторов среди контингента было полно, но толковых стукачей в разветвлённой сети шпионов не значилось. Данные поступали чаще противоречивые, в которых нетрудно было угадать потуги чьей-то убогой фантазии, но признаться в том, что битва за спокойный сон заключённых ведётся по большей части с ветряными мельницами, не позволяла честь мундира, помимо также вполне трезвого разумения, что без этих призраков вся деятельность администрации сведётся к обеспечению, как принято было говорить, околозаконных нужд сидельцев. Аппарат сверху донизу пронизан был опытными коммерсантами, готовыми всячески улучшить быт подведомственного оступившегося населения, и без активно прививаемого образа коварного врага мог запросто скатиться до статуса обслуживающего персонала – разве что только дорогостоящего. В последнем случае нельзя было поручиться даже за основополагающий принцип изоляции подследственных, ибо деньги, как известно, не признают никаких границ, включая и тюремные стены.
В данном случае ничто не мешало продолжению столь многообещающего диалога, но Игорь вдруг одномоментно почувствовал себя усталым от бесконечных расспросов чересчур пытливого клиента и потому демонстративно уставился в монитор. Глеб, чувствуя, что разговор буксует, поспешил вернуться к амплуа покупателя, выбрал наугад два десятка бутылок и, поблагодарив хозяина за интересный рассказ, удалился, чуть приседая под тяжестью ноши. Вышло как-то по-дурацки, оба это почувствовали и оба пожалели, что не удалось завязать более тесное знакомство с интересным, по-видимому, человеком. Та немногочисленная часть московского среднего класса, что не посвящала досуг целиком поиску молодых приезжих дам и прочим нетривиальным удовольствиям, отчаянно тянулась к себе подобным, и упустить возможность пообщаться с близким по духу считалось в их среде порядочной неудачей. Тех, кто всё ещё покупал абонементы на весь театральный сезон, посещал выставки и читал не только одобренные глашатаями общественного мнения книги – безусловно, при наличии финансовой возможности вести куда как менее обременительный для мыслительного процесса образ жизни, оставалось в многомиллионной столице не больше, чем представителей вымирающего вида в Красной книге. Оставалось надеяться, что следующий раз окажется более удачным. Игорь расстроился и хотел было по привычке развеять тоску в компании юной обаятельной подруги, в миру – профессиональной содержанки, но вместо знакомого номера вдруг набрал фитнес-тренера, в надежде, что у того окажется свободное «окно». Лёха ответил положительно – в тот день у него отменилось две тренировки, и, оставив храм Бахуса на помощника, эволюционировавший до интеллектуала успешный бизнесмен поспешил к метро.
Воображение сыграло с Димой привычную шутку – назначенный в поверхностные жизнелюбы Игорь решительно вышел за рамки придуманного образа. Фабулы повествования это не нарушало, никто не мешал ему оставаться циником, без зазрения совести эксплуатировавшим бывшую жену, рассекать по Садовому на дорогом купе, умело соблазнять жаждущих соблазнения женщин, лениво прожигать жизнь, но при этом не ограничиваться одними лишь желаниями плоти. Свободное время и деньги несут в себе коварство бесчисленных возможностей, так что и узколобого чиновника от партии власти, волею случая попавшего на хлебное место, со временем запросто может занести в попечители МХАТа, любители современной поэзии или ещё в какую вневертикальную скверну. Что до Игоря, то для него бизнес никогда не был призванием, оставаясь доступным и не слишком обременительным средством поддерживать существование на желанном уровне, и, пройдя относительно без потерь сквозь все соблазны мегаполиса, доступные его в меру предприимчивым сынам, он благополучно отбросил большинство из них, дабы сосредоточиться на чём-то менее приходящем.
Знакомство с вечным закономерно началось музыкой, когда он записался на курсы игры на гитаре. Курсами они только назывались: речь шла об индивидуальных занятиях с корифеем отечественной эстрады, хотя ни фамилия, ни сценический псевдоним высокомерного преподавателя ничего не смогли поведать новому ученику. Претензия на известность, таким образом, заключалась в одном лишь гонораре, что оказался весьма впечатляющим, и результат вышел соответствующий.



