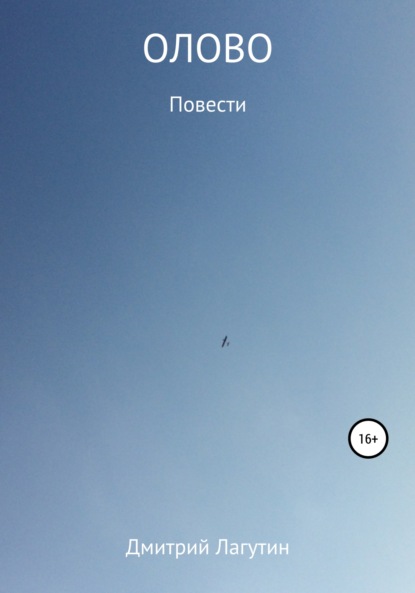
Полная версия:
Олово
Был еще один минус – качество печати. В цвете печатали только обложку, все остальное давали на растерзание обычному принтеру – и оттого многие фотографии выходили совершенно непрезентабельными. Зубрила на одном фото стояла у куста сирени, на лицо падала тень, а получилось, что она в какой-то карнавальной маске. Она, когда увидела, так губы и надула – но смолчала.
И вот в февральском-то номере – как сейчас помню, холодина стояла лютая, по полю носилась, завывая, пурга – в февральском номере вышло интервью с Павлом Александровичем. Мы с закадыкой на паре читали.
Было про регалии, про конференции всякие. Про центр правовой помощи. Про трактат об авторском праве. А про рассказы – ни слова. Мелькнуло что-то про любимые книги – Азимов, Стругацкие – и все.
А между тем почти одновременно с выходом интервью на тумбочке под зеркалом появился еще один артефакт. Это был литературный журнал. И на тридцатой странице – рассказ Павла Александровича.
Этого рассказа не было в «Городе джаза», и я решил, что прочту его после того, как осилю сборник целиком. Еще половина оставалась, или около того.
Мы все поздравляли Павла Александровича – и я ждал застолья по случаю публикации, был предельно осторожен с проветриванием, но застолья не случилось. Досаду мою не описать.
Не было застолья и по случаю повышения – Павла Александровича сделали заведующим кафедры. Теперь он реже появлялся в Центре, а когда появлялся, выглядел вымотанным. Он садился за свой стол, включал компьютер и с такой яростью стучал по клавиатуре, что мы всерьез боялись – и за него, и за нее.
Как-то закадыка отравился и слег – и я два или три раза дежурил в гордом одиночестве; а зубрилу от нас уже давно отселили, выделив ей самостоятельное время. Это был все тот же февраль, самый конец, погода – хоть на факультете ночуй. За окном метет, небо затянуто; курильщики отказывались идти на улицу и набивались в туалеты как кильки в банку. На них устраивались облавы – и понурых, пропахших табаком нарушителей партиями водили в деканат. Я сидел в Центре, пил кофе, крошил на клавиатуру печенье и редактировал курсовую.
По коридору простучали шаги, дверь распахнулась, и в нее влетел Павел Александрович.
Он посмотрел на меня, кивнул и опустился в свое кресло. Загудел компьютер, экран бросил на сосредоточенное лицо голубые блики. Павел Александрович с ходу забарабанил по клавиатуре, но почти сразу осекся, убрал руки, скрестил их на груди, откинулся в кресле и задумался.
Мне стало неловко, и я стал прикидывать – уйти мне или остаться. С одной стороны – курсовая, кофе, крекер в форме рыбок. С другой – Павел Александрович.
Он взял со стола ручку и принялся постукивать ей по блокноту. Сидит и постукивает. А я – как на иголках.
Я попытался сосредоточиться на курсовой. Слышу – клавиатура. «Ну, – думаю, – можно остаться».
Раз – и опять тишина. Сидит, ручку вертит между пальцами. Потом и вовсе – скрипнул колесиками и отвернулся к окну вместе с креслом.
Я встал, кашлянул.
– Павел Александрович, я это… пойду перекушу.
Он обернулся, посмотрел на пакет с крекером – наполовину пустой – и пожал плечами.
Я вышел.
Было около четырех, шла пятая пара. Половина аудиторий – пустые. Я прошелся по коридору, стараясь шагать как можно тише. В холле только гардеробщица – сидит на стуле, скучает среди леса курток. Я поздоровался, она посмотрела подозрительно.
– Чего не на занятиях?
Я не ответил. Пересек холл, поднялся на второй этаж. Оперся на перила, постоял, глядя вперед. Холл почти целиком состоял из огромных окон, и за ними мела метель. Сугробы были такие, что казалось, будто вокруг факультета вздымаются белые волны. Гардеробщица не спускала с меня глаз – сверлила просто, через весь холл, по диагонали.
– Чего не на занятиях? – повторила она.
Я закатил глаза и отошел от перил. Поизучал расписание – первый курс не учится в субботу! – посидел на диванчике. На меня наваливалась дремота.
Мимо прошла Марина Викторовна – она у нас вела трудовое.
– Чего не на парах?
– У меня дежурство в Центре.
Она прищурила глаза.
– Разбаловал вас Павел Александрович.
И она скрылась за углом.
Я и вправду совсем обнаглел. Дежурство дежурством, а вот так рассиживаться – да возле деканата. Я встал, подождал, пока затихнут шаги, свернул в коридор. По левую руку в стене светились узкие оконца, похожие на бойницы – три штуки – в них можно было заглянуть, если росту хватит. Я подошел к ближайшему и привстал на цыпочки, уцепившись за раму пальцами.
Оконце выходило в потоковую аудиторию. Тянулись вниз ряды, на них тосковали студенты – наш курс. Вот мои одногруппники – рассеяны по рядам как горох. Строгая иерархия – отличники внизу, разгильдяи вверху. Вот и зубрила – в самом центре первого ряда, не поднимает головы от тетради – а если поднимает, смотрит на преподавателя так, словно хочет его загипнотизировать. А что у нас на галерке? Сидят с застывшими лицами, спят с открытыми глазами. Один – с закрытыми. Голову на грудь опустил, руки на столе – пишет, дескать. И даже ручку держит – в левой. Писал-писал, и вдруг закемарил – с кем не бывает?
Внизу, у доски, расхаживает преподаватель, жестикулирует, диктует.
В аудитории такие же окна, как и в холле – огромные, во всю стену. Здесь, наверное, раньше был зал ожидания – что-то в этом вроде. За окнами метет так, что ничего не разглядеть – сплошная каша. Теперь кажется, что факультет оторвался от земли и плывет среди облаков. Горят под потолком лампы.
Меня заметили. Один из наших встретился со мной взглядом и давай сразу пихать локтями соседей. Я им помахал и скрылся.
Прошелся по коридору до самого конца. За кабинетом информатики – поворот налево и тупичок. В тупичке две двери и три кресла в ряд. Я уселся на среднее.
Где-то было открыто окно – по полу тупичка кругами завивался холодный воздух. Вероятно, с лестницы. Снова навалилась дремота. Я вспомнил спящего студента и улыбнулся.
Одна из двух дверей распахнулась, и в тупичок вывалился знакомый пятикурсник. У него лицо было все в пунцовых пятнах, ноздри раздувались.
Мы поздоровались, и он сказал:
– Жди. Через год будет вам веселье.
И кивнул на дверь.
– Через два, – поправил я.
Он наклонил голову.
– А ты не на четвертом?
– На третьем.
Он хмыкнул.
– Самый кайфовый курс.
И спросил:
– Экватор гуляли?
– Ага.
– Вот. Нормальная группа. А мы…
И он развел руками.
– А где гуляли?
Я назвал место, он одобрительно кивнул.
– Ладно, – сказал он, – давай.
– Пока.
И он засеменил по коридору в сторону расписания.
В аудитории, из которой он вылетел, кто-то громко ругался. Я встал, подошел к двери, приоткрыл ее и в щелку посмотрел – что же это нас ждет через два года?
В аудитории рвал и метал местный тиран, гроза всего студенческого мира. Я был наслышан о его буйстве, знал его в лицо, но пары он вел только на пятом. А значит, пока и бояться было нечего.
Он заметил, что дверь приоткрылась.
– Что? – крикнул он. – Вернулся?
Я щелкнул замком и ретировался.
***
Из тупичка я махнул на боковую лестницу, спустился и быстрым шагом двинулся к Центру. Снова пришлось пересекать холл и ловить на себе подозрительный взгляд.
От холла я замедлился и пошел тише, а к Центру подбирался и вовсе на цыпочках. Я подошел к двери и прижался к ней ухом.
Мне показалось, что я слышу, как стучит клавиатура.
Я постоял, раздумывая, но войти так и не решился. Была, конечно, мысль, что Павел Александрович строчит всего-навсего какой-нибудь отчет или очередную статью про авторское право… Но вдруг – нет? Войду – и прощай, шедевр. Я вздохнул и потащился обратно – решил попытать счастья со столовой. Столовую обычно закрывали в четыре, но иногда они там задерживались и до пяти, и до шести – и пускали студентов попить чаю.
В этом крыле факультета лестницы не было – и мне опять пришлось идти мимо гардеробщицы. В коридоре по стенам висела всякая всячина – я выудил с одного из стендов список тем для курсовых, уткнулся в него и пошел через холл. Дескать, я тут не просто так шатаюсь, а вот, пожалуйста, с документами. В рабочем, значит, движении.
Гардеробщица, смотрела на меня так подозрительно, словно собиралась вот-вот вызвать охрану, – но ничего не сказала.
Я поднялся на второй этаж и пошел к столовой – но еще издалека увидел, что она закрыта. И табличка даже висела: «закрыто». И я уже было собирался возвращаться в Центр и ставить под удар шедевр, как вдруг понял, что стою напротив той самой аудитории, в которой Павел Александрович нам читает адвокатуру. И я почувствовал, как по щиколоткам меня гладит ледяной воздух, волнами вытекающий из-под двери. Так вот где было открыто окно.
Но если там открыто окно, то там точно никого нет – не станут студентов так морозить, так и до бунта недалеко.
Я взялся за ручку – ледяная. Надавил, она поддалась. В щель пахнуло февральским морозом, свет не горел. Я огляделся по сторонам и юркнул внутрь.
В аудитории было жутко холодно и совсем темно – зато за стеклом сияла метель. Окно возле места, где я всегда сидел, было раскрыто настежь, в него выл, как в трубу, ветер и мело снегом – прямо на столы. Я подскочил, захлопнул – и в аудитории воцарилась тишина.
Я провел ладонью по стулу – сухо – и уселся. Зима точно рассвирепела – как это я посмел ее прогнать – и хлестала по стеклу горстями снега.
Все таяло в белой пелене, и казалось, что само поле встает на дыбы и бросается на факультет. Рощи видно не было, домов за ней – подавно, и только темное небо устало выгибалось где-то далеко вверху.
Я разглядел розу ветров и смахнул с нее россыпь сверкающих капель. Роза ветров, выцарапанная на черной столешнице, вбирающая в себя холодный прозрачный свет, выглядела очень таинственно. Я дотронулся до нее кончиками пальцев и стал водить по шероховатым лучам. Можно ли на ощупь понять, какой именно узор выцарапан на столешнице? Узнаю я свою розу, если ослепну? Я закрыл глаза и почувствовал, как сталкиваются, сменяя друг друга, тонкие линии, выгибаются, зовут за собой – но отказываются складываться в цельную картину и рассыпаются во все стороны наподобие лабиринта.
А потом линии и вовсе иссякли, и пальцы заскользили по гладкой мокрой столешнице.
Заверещал звонок – и в ту же секунду факультет сбросил с себя оцепенение. Он точно вздохнул – по коридорам, по стенам, по потолкам и полам пробежал гул, вслед за ним захлопали двери и поднялся невообразимый гвалт.
Я встал, потянулся – так, что кости захрустели – и вышел. Мимо дверей несся поток из студентов, он вобрал меня, донес до лестницы, скинул в холл – гардеробщица палила по потоку очередями подозрительных взглядов – и понес к лесу из курток, но я увернулся, сделал усилие и вырвался в коридор, ведущий к Центру.
Когда я вошел, Павел Александрович сидел в кресле и смотрел в монитор – что-то внимательно читал.
Шедевр, которому я помог своим отсутствием?
Я сел на место, и только тогда Павел Александрович меня заметил.
– Наелся? – спросил он совершенно серьезно.
Я кивнул.
Он одарил меня долгим взглядом, но ничего не сказал. А я уже был готов объясняться – что не хотел ему мешать и всякое такое.
Он выключил компьютер, перелистал какие-то папки и снял с вешалки пальто. Я думал, он так и уйдет, ничего не сказав – и тогда будет повод понервничать – но уже в дверях он вдруг обернулся.
– Как курсовая?
Я покачал головой.
– Пока так себе.
– Если нужна будет помощь по тексту, обращайся.
– Большое спасибо.
Он кивнул и собрался было шагнуть в коридор, но я выпалил:
– Павел Александрович!
Он посмотрел вопросительно.
– Посоветуйте – с чего начать Стругацких?
Он задумался.
– А тебе сколько лет?
Я ответил.
– Стругацких уже поздно, – сказал он. – Попробуй…
И он назвал какую-то причудливую фамилию, которую я тут же забыл.
– Хорошо.
Он махнул рукой и вышел.
Как только закрылась дверь, я хлопнул себя по лбу – и с чего меня вообще угораздило полезть с расспросами? Стругацких я читать не собирался, этого, как его, пурумбурум, – тем более. Захотелось поддержать беседу?
Я свернул курсовую, завязал пакет с крекером и сунул его в ящик, тот самый, в котором жила касса. За окном мело по-прежнему, только небо еще больше потемнело.
Когда я воевал с молнией на пуховике – она меня вечно подводила – дверь открылась, и в Центр заглянул Павел Александрович. Я испугался, что он сейчас заговорит про Стругацких или про пурумбурум – а мне уже страсть как хотелось домой. Но он только напомнил:
– Будешь уходить – не забудь сдать ключ на вахту.
Это кто-то из старичков отличился вчера – забрал ключ домой. Две смены сорвались. Бабульки толпились перед закрытой дверью и возмущались.
***
Рассказ из журнала я прочел – не закончив «Город джаза» – через пару месяцев, и вот при каких обстоятельствах.
Это был конец апреля – около того. Погода – сказка. Поле нежно зеленело, небо переливалось – голубое-голубое.
Учиться, понятно, никому не хотелось. До сессии оставался целый месяц, и студенты старались выжать все возможное из весны. На факультете возобновились дискотеки, повсюду кто-то кого-то звал в кино, кто-то кому-то дарил цветы, несколько смельчаков сыграли шумные студенческие свадьбы. Даже занятия казались не такими скучными, как обычно.
И дважды я видел, как дети бегают по полю со змеем. Змей был самодельный, невзрачный, но – как же здорово он летал!
И лектор, стоя за кафедрой, засмотрелся на змея. А потом сказал мечтательно:
– Мы тоже в детстве змеев пускали…
Он сразу понял, что ляпнул не в тему, встряхнул головой, нахмурился и продолжил читать курс.
И даже семинары были какие-то несерьезные, никого не выгоняли, не отчитывали, не грозили исключением. Как будто все договорились не мучать друг друга такой весной.
Все – да не все. Пятикурсник накаркал – и когда Марина Викторовна, сетовавшая на то, что Павел Александрович нас разбаловал, заболела – весной! болеть! – ее заменили тем самым тираном, от которого нас, казалось, отделяли полтора года.
Лекция прошла более-менее мирно, тиран был, судя по всему, в хорошем расположении духа и просто декламировал, отчаянно жестикулируя.
А вот с семинаром с самого начала не задалось.
Сперва аудитория оказалась закрыта; тиран жахнул в дверь плечом, обвел нас глазами и рявкнул:
– Староста!
Но староста куда-то пропал.
Тиран выдержал паузу и снова рявкнул:
– Староста!
Тишина.
– Ты! – и он ткнул пальцем в закадыку.
У того кровь отлила от щек.
– Я не староста, – промямлил он.
– Он не староста, – подтвердил я.
У тирана ноздри раздулись так, словно он хотел нас обоих ими всосать – по ноздре на брата.
– Ты! – он снова ткнул пальцем в закадыку. – За ключами!
Закадыка исчез.
Мы – человек двадцать – остались наедине с тираном. Мы были зажаты в небольшом «кармане», тут стояли диванчики, но сесть никто не решился. В окно заглядывало поле, по небу безмятежно плыл белый пух облаков. Тиран сперва не сводил с нас взгляда – со всех одновременно – а потом решил, что мы не заслуживаем его внимания, и уткнулся в записи.
Я увидел, как за его плечом, прижавшись к стене, крадется по коридору староста. У него глаза были как блюдца.
Все стали ему моргать и подмигивать, он понял, развернулся и, не издав ни единого звука, не отлипая от стены, удалился.
Наконец подоспел мой закадыка.
– Почему так долго?
Закадыка из белого стал пепельно-серым и только открывал рот, как рыба.
– Давай сюда ключ!
Тиран вырвал ключ из онемевших рук, отпер дверь и вошел первым, а за ним уже потекли в аудиторию все мы.
Отличники рассаживались прямо перед тираном с лицами, полными ужаса и мольбы. Я у них никогда таких лиц не видел. Они затравленно озирались, а один попытался пробраться на задние ряды, но его безжалостно вытолкали обратно.
Я как-то умудрился просочиться в самую даль, к окну, а передо мной сел наш тяжелоатлет. У него спина была как шифоньер – она отгородила от меня тирана и половину аудитории в придачу.
– Андрюха, – шепнул ему я, – ты – лучший. Ты станешь чемпионом мира.
Под рубашкой весело заиграли могучие мускулы.
На соседний стул опустился закадыка. Теперь он был каким-то зеленоватым, как водоросли.
– Ты чего это так разнервничался? – спросил я безмятежно.
Он посмотрел на меня с ненавистью и уже хотел что-то ответить, но откуда-то из-за спины-шифоньера заговорил глухо тиран.
– Я смотрел ваши работы, – тихо цедил он слова. – Марина Викторовна вас разбаловала.
Все сидели, втянув головы в плечи. Даже Андрюха, игнорируя законы природы, умудрился съежиться – и мне пришлось распластаться по столешнице, чтобы сохранить укрытие.
– Я преподавал трудовое право, – продолжал тиран, – это важный и серьезный предмет, к нему нельзя относиться легкомысленно. Сегодня на трудовое право выделяется куда меньше часов, чем следует.
Я приподнял голову – отличники усердно скрипели ручками. У всего ряда уши были красные, точно маки.
– Если бы я продолжал заниматься трудовым правом, ситуация была бы иной…
Я возблагодарил небеса за то, что он не продолжил заниматься трудовым правом.
– Но я уже несколько лет не занимаюсь трудовым правом. Я занимаюсь…
И он назвал предмет, от упоминания которого даже у абитуриентов по телу пробегает судорога.
– И я вывел эту дисциплину на высочайший уровень. Насколько я понимаю, нас с вами ждет не так много встреч, – он повысил голос, – в рамках трудового законодательства, но я постараюсь сделать все возможное, что вы хотя бы на йоту продвинулись в понимании глубинной сути этого предмета.
Я смотрел в окно. Поле лежало прямо передо мной – широкое, нежно-зеленое, трава весело вздрагивала от ветра. Я представил себе этот апрельский ветер – еще прохладный, острый, но уже напоминающий о лете.
А тиран между тем закипал.
– Зарубите себе на носу, далеко не все из вас смогут стать юристами. Юрист! – пауза. – Юрист – это особый тип! Это отдельная каста!
По небу плыли лоскутами полупрозрачные облака.
– Я уже давно не встречал группы, в которой хотя бы половина студентов была достойна переступать порог этого факультета!
Я снова приподнялся. У отличников уши горели так, что можно было испугаться – не сработает ли пожарная сигнализация. Выплыл из-за огромного Андрюхиного плеча и сам тиран – в руке он держал кружку Марины Викторовны, которая всегда стояла на столе, и даже Марина Викторовна из нее никогда ничего не пила. Он держал кружку так, будто был готов прямо сейчас разнести ее об стену – или чью-нибудь голову.
Я снова прижался к столешнице.
Но речь прервалась – что-то тоненько запищало, повисла тишина, потом прогремел голос тирана:
– Алло?!
Я бы, услышав такое «алло», упал в обморок.
Тиран с грохотом вернул кружку на стол и вышел, шарахнув дверью.
По аудитории пронесся вздох.
– Это ненормально, – сказал закадыка. – Ненормально.
И тут я сделал очень странную вещь, которой сам от себя не вполне ожидал. Я встал, распахнул окно, схватился за раму, уперся ногой в подоконник и вынырнул наружу. Все ахнули.
Меня обдало ветром – он был точно таким, каким я его представлял.
В окно я увидел изумленное лицо закадыки.
– Ты чего?
И он повертел пальцем у виска.
Я пожал плечами.
– Идет, идет, – задохнулся кто-то.
Закадыка рванулся в мою сторону и захлопнул окно.
Я ухнул на корточки и гусиным шагом стал пробираться в сторону. Миновав аудиторию, я выпрямился и вздохнул полной грудью. Потом шагнул к окну и одним глазом заглянул внутрь. Тиран снова размахивал кружкой, отличники безостановочно строчили. Зубрила оторвалась от тетради и посмотрела в мою сторону. Во взгляде читалось отчаяние. Я сделал грозное лицо и замахнулся на тирана – на большее я не был способен.
Тиран, не оборачиваясь, шагнул к окну, и я отпрыгнул. Прислонился к холодной стене факультета, посмотрел по сторонам.
Больше всего мне сейчас хотелось уйти прямо так, через поле – навылом глаз. Но это было, конечно, слишком круто.
Вариантов было два: снова проползти мимо тирана и обогнуть факультет с северной стороны – или пробираться мимо десятка аудиторий, чтобы дойти до противоположного угла.
Я выбрал второе.
***
За следующим окном – теория государства и права, первокурсники. Варвара Михайловна, добрейшая женщина, что-то пишет на доске. Я вразвалку проплыл мимо, сунув руки в карманы и что-то насвистывая.
Первокурсники не отрывали от меня восхищенных глаз. У последнего окна я засвистел громче.
Налетел ветер, подхватил мой свист и унес в поле.
Далее пришлось снова перейти на гусиный шаг – Павел Александрович читал авторское четвертому курсу.
Далее – широкое окно в коридор. В залитом светом закутке в позе мыслителя сидит наш староста, разглядывает туфли. Я занес было руку – постучаться, но потом решил не отвлекать.
А вот мимо следующей аудитории я только что не полз – римское право. Декан.
Пока ковылял по-крабьи, заметил, что из-под стен факультета, там, где они врастают в асфальт, топорщатся высокие зеленые клочья травы.
Слева выкатилась машина с буквой «У» на макушке. Поравнявшись со мной, притормозила, весельчаки принялись сигналить, руками замахали. Я в это время крался мимо криминалистики.
Наверное, за каждым окном думали, что сигналят именно им.
Долго ли коротко ли, я добрался до окна Центра – крайнего на этой стороне – и обнаружил, что оно, внезапно, открыто. Ну, то есть кто-то подложил учебник, чтобы оно не распахивалось настежь – но это был, конечно, пустяк. Я просунул руку, нащупал учебник и аккуратно его отодвинул.
Окно медленно отворилось, приглашая меня внутрь.
Дважды просить не пришлось – я уцепился за подоконник и втащил себя в центр.
Пахло кофе. Дверь – заперта.
У меня даже дыхание перехватило от восторга – настолько удачно складывались обстоятельства. С закрытой дверью Центр больше не принадлежал факультету, теперь он был частью поля с его взлетными полосами, ангаром и кружевами облаков.
Я распахнул окно так широко, насколько мог, еще раз – на всякий случай – подергал дверную ручку, представил, как где-то за тридевять земель, за морями-океанами, на кудыкиной горе вздрагивает недоуменно дверная ручка в коридоре незнакомого мне факультета, пугая заплутавшего первокурсника – и меня захлестнуло волной горячей трескучей радости.
Я стал между столами, поправил стопку бумаг, лежащую у моего компьютера, посмотрелся в зеркало, перевернул песочную картину Павла Александровича – неслыханная дерзость! – и сверху вниз побежала тонкая струйка серебряной пыли. Песчинки громоздились друг на друга, и на картине росла сверкающая пирамида.
Я высунулся в окно и втянул ноздрями ветер, поле, весну, облака, третий курс – аж голова закружилась. Стрекотали кузнечики, щебетали птицы, издалека дотягивался автомобильный гул. Солнце метало лучи в распахнутое окно, они изгибались и чертили на стене прямоугольники.
Я сел в кресло Павла Александровича, откинул голову и закрыл глаза. Но просто сидеть я не мог.
И тогда я решил прочесть тот самый рассказ, из журнала.
Я встал, взял с тумбочки номер, вернулся в кресло, устроился поудобнее. Пролистал до тридцатой страницы – в этом журнале печатали только фантастику – и стал читать.
Действие происходит в параллельном мире – или вроде того. Как если бы советский союз до сих пор существовал – и преуспел в техническом плане. До такой степени, что можно бы было людей отправлять на Марс.
Вокруг такой экспедиции – первой в истории – вся история и вращается. Главный герой, мальчуган лет пятнадцати, ждет возвращения отца – с Марса. Из-за солнечных бурь кораблю угрожает опасность, а он и так уже помят. Корабль совсем близко к земле – последний, как говорится, рывок. Идет урок физкультуры, весь класс гоняет мяч, а мальчуган мается, не знает, чем себя занять. Он садится в углу школьной площадки на траву и начинает от скуки терзать подобие телефона – какой-то дремучий карманный компьютер, у которого функций раз-два и обчелся.
В числе этих раз-два – возможность переписываться с кем попало на волнах определенных, одному компьютеру понятных частот.
Но из-за солнечных бурь вся техника – а не только космический корабль – барахлит и отказывается работать как надо.
По полю в обратную сторону прокатились мои весельчаки – с буквой «У». На песочной картине вырос целый Египет – пирамиды прятались одна за другую и продолжали строиться. Над ними нависали черные грозовые тучи.
Мальчуган с горем пополам натыкается на единственного возможного собеседника – и вступает в переписку.



