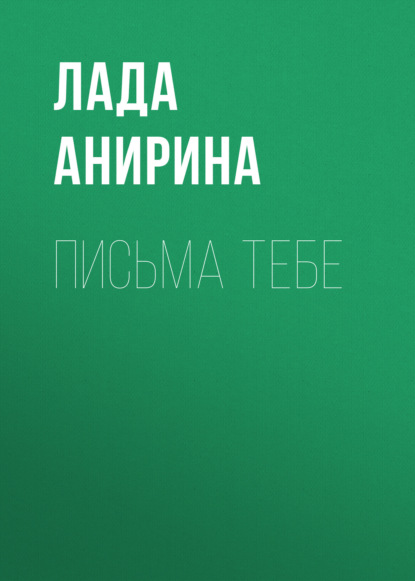
Полная версия:
Письма тебе
Где они были раньше? Звонили мне, писали поздравления в социальных сетях, всячески демонстрировали свое внимание ко мне и моей жизни?
Где?
Где вы были раньше, когда основные участники начала моей жизни и моей истории еще были живы, и я могла хоть что-то разузнать, прочувствовать, понять, перестать изматывать себя внутренними вопросами?
Где были вы, ЛЮДИ, у которых тоже есть дети, сейчас уже внуки?
Да люди ли вы вообще, пришедшие в человеческий зоопарк глазеть на чужую необычную жизнь и обстоятельства?
Я была послушным ребенком.
Послушным во всем.
Это означает, что я не устраивала сцены в магазине, я не просила купить мне мороженое, я не позволяла себе вызывающее поведение ни дома, ни на людях;
Иногда мне кажется, что я боялась своих родителей, т.к. они были скоры на воспитательные меры, причем в качестве подручных материалов использовалось то, что в этот момент попадалось под руку: ремень, шланг от стиральной машинки, просто «тяжелая» рука.
Кричать и плакать строго-настрого запрещалось, чтобы не услышали соседи и не «раскрыли» тайну этой во всех смыслах благополучной семьи: «еще не дай бог услышат, что у нас тут творится…»
И я старалась, что называется «не будить спящую собаку», то есть быть хорошей.
Заслужить, если не похвалу, то, уж точно, не расстроить родителей. Потому что именно «расстройство родителей» запоминалось надолго, и немилость длилась мучительно бесконечно, постоянно сопровождаясь упреками и напоминаниями о том, что я неблагодарная и недостойная получаемых мною благ девочка.
Мы гуляли на нашей улице большой компанией девчонок из нескольких домов. В компании с моими самыми любимыми подругами Машей и Тоней Гусевыми, которые жили в квартире напротив.
Гуляя однажды, мы вдруг оказались в конце нашей улицы, там, где она (улица) заворачивала и на повороте с внутренней, подъездной стороны домов были сараи для хранения дров, угля для растопки, а также прочей необходимой в хозяйстве утвари.
Именно в этом месте сараи, как дома, образовывали полукруг, в котором я неожиданно обнаружила себя, стоящей напротив группы из 5-7 девочек. Я стояла спиной к сараям, а они стояли напротив меня спиной к домам.
Впервые в моей жизни возникла ситуация, когда я поняла и физически ощутила отсутствие тыла и необходимость защищать себя, свою позицию, свою семью и все то, что к моему, кажется, шести-семилетию у меня было.
Все то, что я считала нормальным, ценным и правильным.
Сейчас уже не вспомню, как получилось, что наша игра постепенно переросла в обсуждение нашей семьи и деталей нашей жизни с точки зрения детей или с точки зрения подслушанных ими взрослых разговоров.
В меня, как камни, летели: «да вы такие-сякие», «мама твоя задается», «вы живете богачами, не так, как другие», «да ты вообще им ЧУЖАЯ», «они тебя из роддома взяли», «тебя там бросили, потому что ты помойка», «ты никому не нужна» и тому подобное.
Я пыталась уклоняться от обидных оскорблений, как инстинктивно делает человек, если в него летит предмет. Но потом я поняла, что это делать бесполезно. Я не могла ничего им ответить потому, что, во-первых, ничего не знала про их жизнь, чтобы обороняться и наступать, во-вторых не подслушивала взрослых дома, чтобы почерпнуть «секретную» информацию о жизни других людей, в-третьих, не знала, как поступить: меня ведь не учили драться, даже на словах.
Меня учили покоряться, принимать чужую позицию, быть во всех отношениях удобным и беспроблемным ребенком.
Как благо для себя. Просто принимать и покорно опускать голову в качестве согласия.
Я стояла и издавала странные звуки, похожие на оправдания, пыталась возразить «нет, не так, мы хорошие», «я не помойка», «я нужна», но у меня не получалось.
И не получилось бы потому, что задача моих оппонентов была не получить ответ, а зачем-то закидать «ненавистного» им человека камнями и от этого стать сильнее.
Стали ли они от этого сильнее и почувствовали ли себя правыми? Думаю, да. Потому что никто их не остановил. Никто не сказал им, что семеро на одного – это подло, это признак трусости, стадности. Признак мелкого человечка, который в стаде чувствует себя умным, сильным, правым, таким на самом деле не являясь.
Теперь я знала не понаслышке, что означает быть битой. Битой не физически, а морально. Когда боль от ударов касалась не только тела, но и бушевала внутри. Будто кто-то воткнул в тебя огромную трубу насквозь и провернул несколько раз. Когда невозможно дышать, когда невозможно говорить, когда хочется только одного – сжаться в комочек, закрыть эту огромную дыру, которую проделали в тебе эти озлобленные на тебя дети.
Почему дети, мои дворовые друзья вдруг стали такими злыми? Кто их этому научил?
Помню одно мое желание тогда: закрыть дыру боли и дождаться помощи и поддержки.
Как долго это продолжалось, я не помню. Довольно долго. Настолько, что где-то там, в своем спинном мозге я уже несколько раз позвала на помощь, попросила кого-нибудь из родителей этих детей прийти и позвать их домой, увидеть, насколько они неправы, несправедливы, тем самым остановить эту чудовищную несправедливость, и спасти меня.
Да, я желала, чтобы меня спасли чужие люди. А кто же еще? Помощи от родных я почему-то не ждала.
Вдруг я что-то почувствовала, буквально своим спинным мозгом почувствовала, что с этой стороны конфликта я не одна. Кто-то здесь был. Но почему-то себя не проявлял, будто основная задача этого невидимого незнакомца была не помочь, не включиться в процесс, а наблюдать за развитием безучастно.
Почему не включаться? Не могу сказать. Наверное, потому, что это ведь очень страшно: встать против толпы, продемонстрировать свою позицию, защитить человека.
Таким поведением можно заработать на свою голову проблемы, а кому это надо? Пусть его бьют, я постою и посмотрю, чем всё это закончится. Меня же не видно? Мне же за это ничего не будет?
Но я уже знала, что этот человек здесь есть. Он наблюдает и ждет. Ждет или триумфа толпы, или моих слез, или возможно, еще большей трагедии, когда толпа от слов переходит к делу и бьет жертву уже по-настоящему, вживую.
Я стала вертеть головой вокруг себя в наступающей темноте вечера. Туда-сюда несколько раз. Я не сразу заметила его. Он стоял около сарая, всем телом спрятавшись за угол. Его руки обхватили угол старой деревянной постройки так крепко, будто желая удержать старый сарай от внезапного разрушения и последующего шума, который помешает услышать все самые интересные и захватывающие детали трагедии.
Так стоит человек, который скрывает свое присутствие, желая остаться незамеченным. Так стоит человек, который ни в коем случае не собирается себя обозначить, выйти в толпу, чтобы помочь или защитить. Так ведет себя тот, кто от страха или других мелких чувств, старается во что бы то ни стало остаться незамеченным, во что бы то ни стало избежать гнева толпы и получить злорадное удовольствие от «трапезы» издевательства над другим человеком.
Но я его уже заметила. Сначала я заметила силуэт мужчины. В первое мгновение меня охватила радость и облегчение: вот она, моя помощь, кто это всё видит и непременно мне поможет, остановит эту несправедливость и спасет меня. Я стала вглядываться в глубокую темноту сарайного угла.
Но мужчина не сразу дал себя опознать. Он продолжал держаться за доски, словно это был ключ к шапке-невидимке, которая скроет его и оставит его неизвестным и безучастным.
Но было поздно, я уже сделала движение в его направлении, я уже перенесла большую часть своего внимания на него, тем самым обозначив его для толпы. Ему пришлось неохотно с видимым усилием оторвать руки от сарайных досок и выступить на свет вечерней луны и скудного уличного освещения.
А вот тут я была вынуждена отпрянуть назад. Я не хотела, чтобы события развивались дальше в присутствии именно этого человека, я вдруг поняла, что присутствие именного этого человека делает всю эту ситуацию для меня еще более тяжелой, горестной и безнадежной. Мне было стыдно, что меня вот так, прилюдно позорили и гнобили. В ЕГО присутствии.
Это был мой ОТЕЦ. Он молча с каменным выражением лица шел от сарая, переступая неровности пути, дорожек и чего-то там еще, преодолевая несколько метров, нас разделяющих. Тогда мне казалось, что прошла целая вечность, пока он подошел ко мне.
У меня пересохло во рту, я не знала, что ему сказать: настолько много слов скопилось у меня в этот момент.
Это и обида от услышанных слов, и непонимание причин такой странной «атаки» друзей на меня, и ком в горле от огромного количества обиды и слез, скопившихся и рвущихся наружу с невероятной силой. Как я хотела понимания, как я ждала, что он меня обнимет, прижмет к себе, а их, моих «подруг» отчитает за то, что они так грубо и подло нападали толпой на одного беззащитного маленького человечка!..
Как я ждала защиты!
Он не дошел до меня примерно один метр, он спросил, почему я не пошла домой вовремя.
И это было невероятно! Это было ТО единственное, что он счел нужным сказать мне, своей дочери, которую только что чуть не растерзала толпа!
Позже я поняла, что для моих родителей имело и имеет значение только то, что они думали и хотели сказать. Остальное было совсем неважно и не нужно. Этот случай был всего лишь первым моим обозначением их понимания себя и окружающего мира. И, конечно, меня в их мире.
C расстояния один метр отец, будто боясь замараться, взял меня за локоть, с силой развернул мой локоть по направлению к дому, толкнул меня вперед и велел быстро идти домой….
Последнее произошло настолько быстро, что я даже не успела в последний раз посмотреть в глаза моих врагов, понять, что они чувствовали, боялись ли они появления взрослого человека, поняли ли они свою неправоту и осознали ли тяжесть совершенного.
Это произошло настолько быстро, что моя внутренняя боль, ожидание помощи, радость от увиденного близкого человека моментально сменились совершенно другим чувством. Чувством страха от осознания того, что я действительно очень плохая девочка. Я помойка, которая не волнует даже самого близкого человека. Я настолько чужая и грязная, что меня даже стрёмно было обнять и подойти ко мне ближе…
Теперь я изо всех сил сдерживала свои слезы, чтобы ОН не мог увидеть момента моей еще бОльшей слабости. Слабости и одиночества.
И боли…
И все эти дети поняли, что со мной можно и нужно не только так жестко и жестоко поступать. Их за это не накажут. Им за это ничего не будет. За меня постоять некому. И так будет всю мою жизнь. Видимо, это будет всегда написано на моем лбу.
Он подтолкнул меня за локоть вперед, чтобы я шла, почти бежала домой настолько сильно, насколько могла. И я бежала, бежала по деревянным мосткам вдоль подъездов домов, бежала по гравийным тропинкам, которые завершали мостки. Иногда мои ноги запинались за крупные куски гравия, я почти падала, но, быстро перебирая ногами, восстанавливала равновесие. Я понимала, что ни за что не должна показать себя слабой или упасть.
Я физически боялась, что за проявление слабости ОН догонит меня и поведет себя, как та толпа, и начнет меня «добивать».
Еще большего страха и унижения в этот день я снести не могла.
Поэтому я бежала домой, сдерживая слезы и сжав себя изнутри настолько сильно, что помогающие мне пальцы рук впились в ладони и оставили глубокие ногтевые вмятины в маленьких детских ладошках. Дорога к дому была бесконечной….
Защитные сила детского организма, видимо, взяли ситуацию в свои руки: я плохо помню, что было потом.
Потом помню себя в комнате, когда меня уложили спать. Я не сразу уснула.
Я, как уже стало обычным для меня, разговаривала с кем-то там за окном, рассказывала свои обиды, собранные за весь долгий и несправедливо тяжелый вечер, объясняла, что я совсем не виновата, что во мне нет ничего такого плохого, чтобы так со мной поступать.
И спрашивала, за что? За что это со мной произошло?
Родители, конечно, весь вечер шептались и что-то там обсуждали на ИХ семейном совете. Детей ли, их родителей.
Но точно помню, что ко мне они не пришли. Я их не интересовала. Их интересовало мнение окружающих их людей, семей, сплетен. ..
Спустя годы мама сказала, что она совсем не в курсе была тех событий.
Она, как всегда врала. Она всегда врала. Мне, во всяком случае, точно. К тому времени я уже к этому привыкла.
Ложь всегда очень удобна, ложью всегда можно прикрыть свою слабость, трусость, а главное – ложью можно прикрыть безразличие и нелюбовь.
Но кое-что новое все-таки было. И это чувство было успокаивающим и дающим надежду. Я нисколько не удивилась, впервые узнав, что я приемная дочь.
Я ЗНАЛА это. Раньше. Казалось, знала всегда. Чувствовала это. Как чувствует ребенок, поживший 7 месяцев до своего рождения в одном обществе, а потом оказавшийся в совершенно другом незнакомом прежде окружении…
Слезы все-таки вырвались наружу. Я ревела в подушку и просила КОГО-ТО забрать меня отсюда. Ревела долго. Ревела тихо, чтобы там, за дверью ни в коем случае никто не мог меня услышать, потому что за это меня могли снова наказать и унизить.
Искусство рыдать беззвучно я отработала и владела этим в совершенстве еще с детства. Я знала, что за это меня могут ругать.
Теперь я знала, что меня могут ругать за всё: виновата я, или нет.
Теперь я знала, что у меня нет никого, кто мог бы встать на мою защиту, обнять и пожалеть меня. Теперь я знала, что я действительно одна.
А люди, окружающие меня, на самом деле, совсем не добрые и отзывчивые, а злые, завистливые, подлые, способные напасть в толпе на одного, съесть «заживо».
Теперь я знала, как тяжело быть против толпы, против огромной силы несправедливости, ненависти и зависти, а главное, трусости. Я буду помнить это всю свою жизнь. Я никогда не встану на сторону толпы.
Никогда.
И толпа меня не единожды за это накажет.
Если бы я знала тогда, что это чудовищное чувство одиночества будет потом сопровождать меня всю жизнь!
Если бы я знала, что действительно ни одна живая душа НИКОГДА не встанет на мою защиту и не придет мне на помощь! Никогда не извинится, никогда не поддержит! Если бы я тогда знала, что, по сути, это был только первый удар моего самого близкого окружения!
Тогда я не понимала, за что. Понимание пришло много позже. Для этого надо было прожить жизнь.
В тот день закрылась ТРЕТЬЯ дверь.
ПИСЬМО
Почему все мои воспоминания начинаются светлыми и радужными красками? Такими красочными бывают детские картинки с неуклюже нарисованными домами с покатой крышей-скворечником. С дорисованным крыльцом и дорожкой от этого крыльца, будто открытой книгой, начинающейся от родного дома. С барашкообразными синими облаками и оранжевым солнечным кругом с желтыми лучиками счастья.
Почему потом это ощущение света и солнца сменяется закрытыми окнами и дверью с обшарпанной серой краской?
Почему нет счастливого завершения детской картины? Почему в моей голове всегда молотом по наковальне бьется мысль, что так хорошо долго продолжаться не может, развязка наступит и будет совершенная смена картинки.
И будет больно.
У меня есть брат, сводный брат Александр, который старше меня на 10 лет. Родной сын моих приемных родителей, которого безумно любит наша мама.
Любила, любит и будет любить. Любить так, как любят родных деток, которых хотели, вынашивали и рожали в муках.
Которых любили еще до рождения. Которых будут любить, несмотря на проступки, большие и малые.
Так вот в жизни такого «золотого» мальчика внезапно появилась сестра. Из ниоткуда. Просто так взяла и появилась. Без предварительной семимесячной или девятимесячной подготовки к рождению и привыканию к тому, что теперь все блага жизни будут делиться на две части. Или почти на две. Или хотя бы делиться в неважно какой пропорции.
Не могу сказать, что Сашка меня не любил, или любил, или испытывал какие-то другие чувства. Например, чувство ревности.
Такое чувство осознают в себе все дети, у которых рождаются младшие сестры или братья. У кого больше, у кого меньше, но без этого не обходится ни одна семья с детьми. Родители сталкиваются с этим в капризах, нежелании выполнять просьбы и наказы родителей. В общем, демонстрируют непослушание и всячески обращают на себе внимание взрослых.
Я, конечно, очень к Сашке тянулась. К кому же мне было тянуться? К старшему брату, конечно! С ним было интересно: он лепил из пластилина рыцарей, читал разные книжки, играл в хоккей во дворе.
Мама очень им гордилась! И я тоже им очень гордилась. Тогда.
Я верила тому, что мне говорила мама. Беспрекословно. Позже я поняла: если я им беспрекословно не верю – я сталкиваюсь с непониманием и жесткими действиями родителей. Маме и папе надо было верить. Поступки и действия должны быть одобрены мамой и папой. Жизнь должна быть такая, как считают мама и папа. Иначе следовали санкции. Санкции продолжались до тех пор, пока мое мнение не становилось калькой мнения моих родителей.
Саша так поступать не хотел. И не поступал. Ему было позволено иметь свое мнение, поступать по собственному желанию, спорить с родителями и даже конфликтовать. Санкций к нему не применяли. Вернее, применяли, но краткосрочно, чем он научился успешно пользоваться. Он точно знал, что ему всё сойдет с рук. Он мог переложить вину на меня, на соседа, на кого угодно, мама верила ему. И вставала на его защиту.
Саша любил меня, что называется, задирать. Так, как поступают мальчики в школе по отношению к косичкам девочек.
Проходя мимо меня, взвесить мне по затылку, пугать из-за угла, под любым предлогом выклянчивать у меня скопленные в копилке копеечки, обманом уговаривал поделиться мороженым, предварительно съев своё.
Как я реагировала? Конечно, жаловалась на него родителям, за что была обязательно отчитана мамой или папой, потому что жаловаться было нехорошо, послушные девочки так не поступали, а я нервная и психическая, всегда капризничаю без повода и причины.
Кто б сомневался?
Однажды Сашка меня больно треснул по голове, треснул просто так, проходя мимо, видимо не рассчитав силу удара и вообще не задумываясь о последствиях.
Я расплакалась. На вопрос из кухни, что у нас там происходит, я пошла маме объяснить, что случилось.
Но мама мне не поверила, она была абсолютно уверена, что брат сам пострадал из-за моих приставаний, и вина лежит полностью на мне.
Я постоянно являюсь источником шума и ссор в нашем благополучном для соседей доме.
Не помню, почему, но я настаивала на своей версии, тем самым совершенно разозлив маму, от которой тут же получила по мягкому месту за вранье и за жалобы. Хорошо так получила.
С уже ставшим привычным утверждением, что с ТАКИМ характером я буду всю жизнь одна. С таким характером я никому не буду нужна.
Справедливости ради надо заметить, что впоследствии я действительно старательно «придерживалась» данной мне оценки.
И при малейших неудачах в личной жизни или в отношениях с окружающими меня людьми я замыкалась и винила только себя: ведь это у меня был ТАКОЙ ужасный характер…
В довершение всего я была поставлена в угол для более полного осмысления совершенного мною гадкого поступка.
Саша был счастлив и удовлетворен, он был свободен и ушел гулять.
На мою защиту он не встал. С совестью у него уже тогда все было в порядке.
Впервые в своей короткой жизни я поняла, что справедливости нет. Меня наказали незаслуженно. Небеса не разверзлись в негодовании…
Выстояв в углу необходимое количество времени, по требованию мамы я подошла и извинилась перед ней за свой поступок, обещала больше так не делать, и с позволения мамы пошла в нашу с братом комнату.
Там я взяла клочок бумаги, карандаш и написала: «Этот день я не забуду никогда». Свернула в несколько раз листок и «спрятала» свою записку в подшитых полах своего домашнего халата, вероятно, предполагая, что навечно это будет абсолютно подходящим местом для хранения такого важного секрета и крика души.
Сейчас я не могу понять, откуда маленькая девочка в свои шесть-семь лет могла знать, что наилучший способ избавиться от горя, проблемы или навязчивой мысли – написать на бумаге про свою обиду и сжечь листок?
В моем случае было, конечно, спрятать, а не сжечь, но суть дела это не меняет.
Мне помогло! Я продолжила заниматься чем-то своим, забыв уже про слезы, угол и наказание.
Что было дальше? Выходя из комнаты, я заметила маму, которая с интересом что-то разглядывает в своих руках.
Я прошла было мимо нее по коридору, но вдруг в моей голове что-то щелкнуло и вернуло меня к ней. Мне стало интересно: что же такое она с таким интересом изучает? Что-то же такое заставило ее оторваться от домашних дел?
Я вернулась в комнату и посмотрела не нее, вернее, я посмотрела на то, что она держит в руках.
О боже! Это была моя записка, которая, возможно, выскочила из-за полы халата, предательски раскрывая то, что я хотела бы скрыть от нее и от кого-либо другого.
Мама оторвалась от записки, видимо, не совсем понимая, о чем идет речь. Она, вскоре поняла, что там было начиркано нетвердой детской рукой, но явно не могла понять, т.е. сообразить, почему? В чем собственно дело? Почему это валяется на нашем всегда безупречно чистом полу?
Я стояла в коридоре и, молча, смотрела не нее.
Волна животного страха потихоньку подкатывала к ложечке. В угол я больше не хотела, но имела стопроцентные шансы вновь туда попасть за такие дерзкие действия по отношению к наказанию.
Я понимала, что позволила ослушаться маму и оценить её действия. Это был очень серьезный вызов. Очень.
Я чувствовала, как начинают дрожать мои коленки, а за ними мои руки. Я сжала руки в кулачки и приготовилась ждать следующего витка наказания. Я изо всех сил сдерживалась, чтобы не закричать от страха ожидания.
Неожиданно мои мысли и мамины пересеклись, она подняла голову от записки, посмотрела перед собой, будто что-то проговаривала про себя, потом медленно, очень медленно повернула голову в моем направлении.
Она ТОЛЬКО повернула голову, она не повернулась ко мне полностью, она повернулась только лицом из-за плеча.
И неожиданно на ее удивленном лице глаза стали сужаться, пока не превратились в маленькие щелочки. Губы стали узкими и напряженными. Зрачки уменьшились до размера булавочной головки, делая взгляд жестким и колючим.
Я почти прочитала её мысли: этот день она тоже никогда не забудет.
Она даже не будет мне ничего говорить, объяснять или мириться. Делать что-нибудь, чтобы заслужить мое доверие, понимание, любовь. Она будет выше всего этого. Она запомнит, что придумала эта маленькая и дерзкая девочка, которую она вынуждена поить, кормить, одевать, платить каждый месяц 23 рубля за обучение в музыкальной школе.
Она будет помнить это всю жизнь и напоминать мне, что гены, данные человеку при рождении, это самое страшное и самое неуправляемое, с чем может столкнуться человек.
Перелом в отношениях произошёл.
С этого дня я и родители пошли разными дорогами. Не в том смысле, что мы перестали общаться, совместно жить, учиться в школе и проверять уроки и многое другое, что связывает людей в одной семье.
Мы еще много лет будем терзать друг друга необоснованными подозрениями, упреками, обидами и отягощать своим присутствием.
Все, что раньше было открытое и радужное, осталось в прошлом.
В будущем теперь будут только подозрения, упреки, раздраженность, недоверие и вранье. Причем последнее будет исходить со стороны взрослых, нежели детей. …
Спустя много лет я решилась сделать шаг навстречу, чтобы объясниться с мамой, узнать правду, освободиться наконец от тяжелого внутреннего кома боли.
Но мама не пошла навстречу. Она опять начала лгать, выкручиваться и придумывать свою новую правду.
Попытка оказалась тщетной.
Я не должна была иметь такие иллюзии
В тот день я осталась одна. Впервые я узнала, что такое одиночество. Одиночество изнутри.
Осталась одна в своих мыслях, мечтах, надеждах, поступках. Закрылась ЕЩЕ ОДНА дверь.
ПИСЬМО
В семь с половиной лет я пошла в первый класс. Я совсем не помню пышной праздничной церемонии, встречи с первой учительницей, букетика цветов и других атрибутов начала самостоятельной жизни маленького человека.
Торжественности и волнения не помню вообще.
Я помню, что на подготовительных занятиях моей маме предлагали перевести меня сразу во второй класс, т.к. я уже обладала необходимыми для второклашки навыками письма, счета и чего-то там еще.
Мама решила, что для экспериментов ни я, ни она не готовы.
Я поступила в школу в подходящий моему возрасту класс со знакомыми мне по двору и ближайшим улицам друзьями и подругами.



