
Полная версия:
Билет до Луны


Светлана Лабузнова
Билет до Луны
© Лабузнова С.И., 2014
© Рыбаков А., оформление серии, 2011
© Клименко Н. А., иллюстрации, 2014
© Макет, составление. ОАО «Издательство «Детская литература», 2014

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
О конкурсе
Первый Конкурс Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков был объявлен в ноябре 2007 года по инициативе Российского Фонда Культуры и Совета по детской книге России. Тогда Конкурс задумывался как разовый проект, как подарок, приуроченный к 95-летию Сергея Михалкова и 40-летию возглавляемой им Российской национальной секции в Международном совете по детской книге. В качестве девиза была выбрана фраза классика: «Просто поговорим о жизни. Я расскажу тебе, что это такое». Сам Михалков стал почетным председателем жюри Конкурса, а возглавила работу жюри известная детская писательница Ирина Токмакова.
В августе 2009 года С. В. Михалков ушел из жизни. В память о нем было решено проводить конкурсы регулярно, каждые два года, что происходит до настоящего времени. Второй Конкурс был объявлен в октябре 2009 года. Тогда же был выбран и постоянный девиз. Им стало выражение Сергея Михалкова: «Сегодня – дети, завтра – народ». В 2011 году прошел третий Конкурс, на котором рассматривалось более 600 рукописей: повестей, рассказов, произведений поэтических жанров. В 2013 году в четвертом Конкурсе участвовало более 300 авторов.
Отправить свое произведение на Конкурс может любой совершеннолетний автор, пишущий для подростков на русском языке. Судят присланные рукописи два состава жюри: взрослое и детское, состоящее из 12 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Три лауреата Конкурса получают денежную премию.
В 2014 году издательство «Детская литература» начало выпуск серии книг «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова». В ней публикуются произведения, вошедшие в шорт-лист конкурсов. Эти книги помогут читателям-подросткам открыть для себя новых современных талантливых авторов.

Билет до Луны
Повесть

Улыбнитесь! Вас снимает скрытая камера
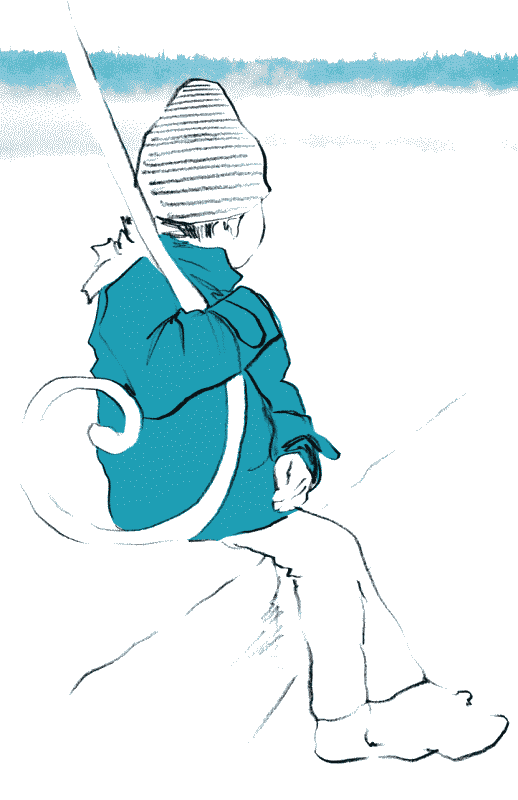
Воспоминания о прожитом похожи на просмотр записи, снятой скрытой камерой. Иногда видишь то, что раньше оставалось как-то незамеченным.
Я смотрел на бумажный лист, забыв о времени и о давно превратившихся в клейстер пельменях на плите. Может, не стоит писать: «Жизнь до – жизнь после»?
Пути себе расчистив,На жизнь мою с холмаСквозь желтый ужас листьевУставилась зима.Б. Пастернак. Ложная тревога«Детство в людях»

Своего детства я почти не помню. В моих воспоминаниях оно похоже на одинаковые, как капли воды, дни, из которых как-то сразу не собрать ни одной полной картинки длиной больше пяти минут. Только один день врезался в память настолько, что я до сих пор помню его в мельчайших деталях.
Новый год. Мне скоро исполнится шесть лет. Это последний год в моем первом детском доме. Я давно догадался, что к нам Дед Мороз сам лично не приходит. Занят, наверное. Он передает свой посох и красную шубу с валенками Игорю Николаевичу, который легко узнаваем по своим огромным командирским часам.
Взявшись за руки, мы с давно разученной песней вполне себе бодро бредем вокруг елки. Неожиданно кривой елочный круг рвется, над ним хлопушкой взрывается слово:
– Мама!
Мы перестаем водить хоровод и с любопытством смотрим, как недавно переведенная из детского приемника девочка бежит к Снегурочке. Маленькая девочка в марлевой юбке, немного пожелтевшей от времени. Юбочка, служащая уже бог весть какому поколению снежинок, похожа на бутон увядающего цветка. «Снежинка тающей зимы». Не помню, где я слышал это название, но, наверное, оно лучше всего подходит к этому костюму. На короткой юбчонке кое-где блестят маленькие кусочки бело-желтой мишуры.
Здесь все кажется ненастоящим: и Дед Мороз, и елка с редкими ветвями. Игрушки на ветках висят высоко, так, чтобы наши руки не могли потрогать блестящие шары. Нижние, самые длинные ветки ели густо увешаны бумажными гирляндами, флажками и фонариками. Бумажное мастерство детских рук. Больше всего в зале желтых фонариков. Снегурочка – такая же фальшь, как и сам новогодний праздник, впрочем, сначала это совсем незаметно: она в наших глазах почти настоящая, не то что Дед Николаевич Мороз.
Снегурочка растерянно склонилась над новенькой. И тут Леночка почему-то изо всех сил вцепилась в толстую, светлую, как у нее самой, косу Снегурки. А потом произошло невероятное, не виданное никогда раньше никем из тридцати ребятишек, находившихся в зале. Косы внучки Деда Мороза вместе с шапкой съехали набок, а потом и вовсе свалились с головы. На голове Снегурочки оказались запасные волосы, короткие, цвета яичного желтка. Желтый цвет – цвет расставания. Я понял это в том детдоме. В моей жизни желтого цвета всегда было слишком много.

Весной двор покрывается одуванчиковым ковром, оставляющим желтую пыльцу на наших пальцах и носах. Если смотреть на двор сверху, из окна, то заметно, что ковер похож на лоскутный. Такой, какой любит делать тетя Лиля – главная по детдомовскому имуществу. На желто-зеленом мелькают пятнышками наши куртки. Пропадает ковер – уходит весна. Осенью клены отдают свою желтую дань потускневшей траве. Они разлучают траву с летом. Зима тоже желтеет: короткие дни сменяются желтыми вечерами. Фонари светят желто-огненными глазами, словно древние ящеры, заглядывающие в пещеры.
Наш дом стоит у самого подножия большого холма, на вершину которого вскарабкались высотные дома. Этим холмом со стоящим на нем новым микрорайоном заканчивался наш тихий провинциальный город. Воспитатели часто сетовали, что добираться на работу неудобно, – транспорт, мол, не ходит в такую глушь, а ежедневно спускаться и подниматься на огромный холм очень муторно. Я спросил, что означает слово «муторно», но мне посоветовали пойти поиграть и не лезть во взрослые разговоры.
Если бы нам позволили посмотреть, как приходит вечер, то мы увидели бы, как фонари-ящеры караулят дорогу и как высматривают они идущих по дороге людей. На некоторых фонарных столбах не хватает лампочек, они так и стоят с потухшими глазами в полосках желтого света других фонарей.
Мы рано ложимся спать, поэтому никому из нас не удается загадать заветное желание падающей звезде цвета разлуки. Ночью луна опускает на землю свои желтые дороги, на которые смотрят звезды, но мы, дети-сироты, об этом ничего не знаем.
– Ты не моя мама! Где моя мама?! – Ленка с рыданиями теребит красивый, расшитый блестящими нитями рукав Снегурочки.
Дед Мороз (Игорь Николаевич) спешит раздать шуршащие кулечки с конфетами и чудесным образом исчезает с такой легкостью, что ему мог бы позавидовать настоящий Дед Мороз.
Иногда воспитатели между собой называли Леночку горькой сиротой и ангелом. Она сразу попала в категорию любимых, «хорошеньких», как говорили воспитатели, детей. У ангела были волосы, напоминавшие цветом четверговую кашу с маслом. Чтобы в пшенную кашу повара клали сливочного масла сколько полагается, а не сколько им хотелось бы, наша старшая медсестра Нина Павловна лично снимала пробу. Пять рабочих дней в доме слышалась приятная негромкая речь. Воспитатели общались на полутонах, периодически бросая взгляды на дверь, – Нина Павловна обладала нервирующей способностью ходить бесшумно. Нинель (так звали за спиной сотрудники нашу старшую медсестру) крик на детдомовского ребенка могла превратить в запись в трудовой. Работу здесь ценили за надбавки, положенные за закрытость учреждения. Теперь я понимаю, что, несмотря на относительно скромные официальные полномочия, фактически Нина Павловна была матерью-королевой в закрытом от внешнего мира королевстве несовершеннолетних подданных.
На прогулках мы любили смотреть сквозь металлические прутья забора. Редкие прохожие были большой удачей для зрителей. Здание детдома стояло в стороне от дороги, на подходе к лесу, так что по узенькой тропинке люди шли в основном в лес. Мы всматривались в их лица. Все они шли мимо, иногда одаривая нас улыбками, но чаще как будто не замечая. Иные даже ускоряли шаг, как если бы им было неприятно или отчего-то стыдно.
Еще мы очень любили наблюдать за кошками. Эти-то не стыдились ничего. Для кошек запретов не было. Они свободно проходили сквозь забор. Кошки и собаки, вороны, воробьи – кроме этих животных, мы не знали никого. Зоопарка в нашем городе не было, а если бы и был, вряд ли бы нас туда повезли. Рыжие тигры, задумчивые слоны и грустные зебры прятались в красивых книжках, стоявших на полках в игровой комнате. Зато у меня была своя, персональная, кошка. Я гордился тем, что рыжая с травяными глазами кошка выделила меня среди множества маленьких, почти всегда одинаково одетых человечков. На мое «кис-кис» она бежала охотнее, чем на Борькино зазывание, и брючины моих штанов собирали больше шерсти, чем Борькины. А может, мне просто так казалось.
Рыжая терлась полосатой бочиной о мои ноги, хитро щурила глаза, похожие на крохотные лимончики, от этого лимончики сплющивались и превращались в щелочки. Она мурлыкала кошачий туш.
Настоящие лимоны были на картинках с фруктами, их показывали нам на занятиях. Воспитатель, подняв картинку повыше, всегда спрашивала: «Что это?» Мы верили, что где-то помимо книг существуют клубника, земляника и малина. Иначе зачем это рисовать на картинках? Воспитатели говорили, что в лесу поспела земляника и если поторопиться, то можно немного набрать на варенье. Говорили они это промеж собой. А нам оставалось только воображать, какое оно на вкус, это варенье.
Я знал, что рыжая кошка поет только для меня. Это очень приятно – осознавать, что у тебя есть что-то свое. Хотя бы кошка и ее песня. Воспитатели эту кошку, как и всех других, прогоняли, но она приходила снова. А потом она почему-то перестала приходить, напрасно я вглядывался в узкие полоски забора – пушистой нигде не было видно. В тот же шестой год моего детдомовского детства нашлась Леночкина мама.
Моя мать не находилась. Я вообще никогда не задумывался, почему кто-то из незнакомых взрослых приходит, общается с нами, а потом кого-нибудь забирают. Куда и зачем? Почти как пророчество выползает из памяти фраза, брошенная Антониной Петровной, моей первой воспитательницей, снова звучит ее низкий грудной голос: «А этого черного грачонка никто никогда не заберет. Дитя курортного романа». Это все, что я знал о родителях до семнадцати лет.
Аким

Сережка, по прозвищу Аким, вразвалочку шел с ведром в сторону окон нашего холла. Шел, неспешно отмеряя шагами длинный прямоугольник дорожки, покрытой серым потрескавшимся асфальтом, словно морщинистой сеткой. Сережка не обращал внимания на такие ерундовые мелочи, как трещины на асфальте, через которые куда-то ползут дождевые черви. Путь Акима лежал обратно в дом, куда он намеревался войти так же, как и вышел, – через окно.
– А ну стой! Ты почему в семь утра на улице? – Лариса Ивановна сделала вид, что не знает, куда Серега иногда мотается по ночам.
Аким успел заметить недокуренную сигарету в кулаке за спиной у Жужелки. Она была зажата в руке на уровне поясницы, там, где начиналась серая узкая юбка. Аким отметил про себя, что сегодня сигарета короткая, мужская. Значит, у Лариски что-то случилось. Обычно она носила в кармане пачку длинных женских легких сигарет и выкуривала их тогда, когда в ее личной жизни были тишь да гладь. Крепкие сигареты были признаком какого-то потрясения. А потрясти ее могли только сбои в личной жизни. Все остальное у нее устраивалось легко и понятно. Прозвище Жужелка прилипло к Лариске с первых дней работы. «Не жужжать» – это было и ее жизненное кредо, и одновременно приказ тем, кто с ней в чем-то несогласен. Вообще-то тетка она была неплохая. Крикливости бы ей поменьше, а так ничего – мини-юбка в любое время года да бодрость духа.
– Вышел свежим воздухом подышать. Здрасте вам!
Серега, как и все детдомовцы, отличался наблюдательностью. И сейчас наблюдательность подсказывала ему, что надо побыстрее сваливать в группу. Скользнув по воспитательнице глазами, частенько косящими невесть куда, он заметил, что Жужелка кривовато сделала контурную линию на губах. С ней такое случалось редко. Кривой контур также был сигналом того, что у нее что-то пошло не так, а значит, ее настроение сейчас с жирным знаком минус. В облике Ларисы Ивановны была обычная строгость: даже серо-пепельные волосы всегда лежали так, словно побаивались нарушить раз и навсегда заданную прическу. А может, и взаправду боялись? Возьмет ножницы и отрежет непослушную прядь.
– И тебе утро доброе. А почему с ведром? – поинтересовалась Лариса Ивановна, сканируя Акима своим цепким взором.
Под этим строгим взглядом бывшего сотрудника детской комнаты милиции не раз временно раскаивались мальчишки на полпути к мелким хищениям дачного провианта, откладывая набег до лучших времен.
В непосредственной близости к детскому дому со всех сторон располагались панельные многоэтажки скучного серого цвета. Переехав в городское жилье из пошедших под снос бульдозерами деревенских домов, обитатели окраин не утратили привычки к сельскохозяйственному труду. Банки с дачными соленьями-вареньями ждали зимы в огороженных клетках. Такие ограждения жильцы приваривали к мусоропроводу, которым никто не пользовался. Поначалу наши ребята наведывались на дегустации, легко вскрывая простенькие навесные замочки на импровизированных складах. Жильцам уничтожение их дачных трудов было не по нраву, и они приходили разбираться к директрисе. Дегустаторы клялись, что налетов на запасы больше не будет. Со временем ящички канули в Лету, пропали куда-то. Может, потому, что не только наши ребята ими интересовались.
Серега, однако, под взглядом Ларисы Ивановны не растерялся. Он нарушил устав бытия лишь в одном пункте – отсутствовал некоторое время в детском доме.
– Я цветы поливал. – Акимов кивнул на ближайшую клумбу, отвечая на вопрос об уместности ведра на утренней пробежке.
Ночью прошел дождь, но Аким не задумывался о таких причинно-следственных связях, как клумба – дождь – ведро. За каждой группой закрепили по клумбе. На нашей иногда цветочно-садовое усердие проявляли воспитатели. Девчоночьи же оставались цветущими до глубокой осени. Цветы на них, как и сами девчонки, отличались непохожестью и пестротой. Наша клумба была наполовину затоптана. В дальнем углу некогда квадратного цветника выживали только желто-оранжевые ноготки. И кто придумал сделать клумбу по соседству с футбольным полем?! «Поле» – это понятие условное. Небольшой участок в углу территории с дугой ворот, с остатками сетки, напоминавшими кусочки порванной паутины. Трава там никогда не росла. Даже если какие-то настойчивые травинки и пытались посмотреть, как выглядит солнце, наши ноги в стоптанной обуви вгоняли их обратно к корням.
– Марш в группу! И через дверь иди, поливальщик.
Лариска заново закуривает спрятанную от острых Акимовых глаз сигарету. «Подстричь бы его надо. Челка в глаза уже лезет или он намеренно отпускает ее? А что, волосы скрывают взгляд… И не поймешь, что он там себе думает. А что думает? Скрытный человек. Прямо «вещь в себе». Сейчас ходит машины мыть. К кровати его не привяжешь и в изолятор жить не отправишь. Мы хоть и закрытое учреждение, но дети вон ходят спокойно по району днем. А этот еще и ночью. Хорошо, что один такой. Дойдет наверх – настучат по голове. Им лишь бы мораль читать. Как за границу на экскурсию детей сопровождать, так они сами, а как воспитывать их, так „плохо работаете". Детей им в командировку отбери поспокойней, чтобы проблем не было. Ну съездили ребята – и что? А их вон подстричь некому. Шампунь водой приходится разбавлять, и неясно – то ли просто мутная вода, то ли мыльная. Пэтэушники-парикмахеры придут практиковаться только осенью. Ладно, сама ему челку отрежу. И так косит своими зелеными глазами». Закончив внутренний монолог, Лариса Ивановна бросила докуренную до фильтра сигарету в урну и пошла к входной двери.
Ночная смена сдавала пост: «Все нормально. Акимов опять отсутствовал. Как ни карауль его – уходит, шельмец! И окна наглухо не забьешь – не положено».
Сережка Акимов пошел в нашу третью группу, гремя серым оцинкованным ведром с красной надписью на боку: «3-я гр. КОР». Из этого ведра положено было мыть коридор группы. Уборка в детдоме возводилась в культ. То ли воспитатели искренне полагали, что эта трудотерапия с тряпками и швабрами, похожими на перевернутые буквы «Т» (что, видимо, символично), спасет нас от проблем, то ли так уж боялись проверок на чистоту, но, скорее всего, это был просто способ занять наше время и заодно частично высвободить свое. Нянечки у нас долго не задерживались, и полы мы мыли сами.
– Барышкин, мой чище! Смотри, мусор везде валяется. Если оштрафует санэпидемстанция, плохо будет и нам, и вам. И вечером обувь поставьте проветривать на подоконник. Это ж прямо газовая камера, а не комната!
– А мне по фигу, – меланхолично отзывается Сашка Барышкин, продолжая лениво возить шваброй по полу, оставляя за собой мокрые полосы, гоняя туда-сюда кусочки серой, давно засохшей и потому неразмокающей грязи, занесенной на чьих-то ботинках.
Обычные утренние и вечерние диалоги. Но грозные сэсовцы не приезжали ни во время эпидемии гриппа, ни в случае с торжеством чесотки. В то бабье лето уже никто не пытался выяснить, откуда и кто притащил эту казнь египетскую на наши муки. От несносного запаха серной мази спасались прогулками во дворе и постоянным проветриванием. Пахли все: и персонал, и дети.
Учителя смотрели на нас с подозрением, морща нос от нашего амбре. Но мы глушили аромат мази дезодорантами. Дезодоранты купил завхоз, и еще кое-что принесли воспитатели. В школе интересовались, отчего это так мы благоухаем. Но так как к нам все были уже привыкшие, то со временем перестали задавать вопросы. Приставать с расспросами о пропавших тетрадках, вечно забытых ручках, отсутствующей сменной обуви учителя давно прекратили, поняв, что нет смысла выяснять, где все эти вещи. Мы частенько валили все на плохое финансирование. И в этом проявлялось редкое единодушие воспитанников и воспитателей. Отличники среди наших встречались редко. Учителям было достаточно того, что мы вообще приходим на уроки и перебираемся из класса в класс. В детском доме в младших группах еще пытались делать с нами уроки, заставляли учить таблицу умножения, но в старших этот процесс выполнения домашних заданий был совсем прозрачным.
Как-то прислали к нам в группу психолога. Воспитательница заболела, и, чтобы не ставить человека в третью смену, пришла психолог. После той пробной смены она не ходила работать в группы. Все-таки заниматься с нами один на один в кабинете лучше.
Серега нырнул в постель с головой, намереваясь поспать часок до подъема. Из-под одеяла с вышитым личным номером воспитанника торчали Серегины ноги в продырявившихся носках мышиного цвета. Он так торопился лечь спать, что забыл их снять.
Сергей не был моим другом, и я не знал, как он отреагирует на мою просьбу. Белый пододеяльник спрятал его целиком, оставив на поверхности серый ромбик одеяла. И этот ромбик был как знак: «Не беспокоить!» Но надо было с чего-то начинать разговор. Я сто раз мысленно репетировал важный для меня диалог и сто раз не знал, чем он закончится. Пока все «уши» спят, надо было поговорить, перетереть о важном для меня деле. И я спросил:
– Засекли?
– Ara, – зевнув, ответил Серега, давая понять, что разговор, не успев начаться, уже окончен.
Тогда я просто брякнул напрямую о своих целях:
– Серег, а возьми меня с собой. А?
– Чего? Куда?
– Я тоже хочу машины мыть. Мне деньги очень нужны.
– Деньги? Зачем тебе деньги? Ты ж на всем готовом живешь: о тебе государство заботится. – Тут у Сереги здорово получилось спародировать нашего завхоза Матрешку.
Галину Алексеевну так прозвали не столько за ее фигуру дородной кустодиевской красавицы, сколько за яркий румянец на щеках. Наверное, дома у нее хранились стратегические запасы бордовых румян. Под стать фигуре был и голос этой дамы – густой, как детдомовский кисель по выходным, сваренный по какому-то хитрому рецепту из овса и чего-то еще, совершенно неопознаваемого, придававшего напитку поразительно противный вкус (всегда одинаковый) и непередаваемый цвет (всегда разный).
– Очень надо. Ну пожалуйста!
– Рискованно. А что взамен?
– А что хочешь?
– Ладно. Разберемся.
– Без базара, брат!
– Спи. «Брат»! Тоже мне родственничек выискался!.. – Сережка захрапел, спрятавшись от заглядывающего в комнату солнца под белое поле с серым ромбиком.
Прозвище Аким у Сереги появилось не сразу. Сначала его прозвали АКМ – в честь автомата Калашникова: в первые дни в детдоме он был какой-то суетливо-быстрый, как автоматная очередь, но очень скоро для удобства перекрестили в Акима. Немного погодя Серега освоился и стал спокоен и нетороплив, а прозвище осталось. С ребятами Аким практически не общался. В детдоме он появился меньше года назад. О себе почти ничего не рассказывал. Его роль в нашем детдомовском обществе была ролью одиночки.
А я, кем был я? Я был, наверное, наблюдателем. Эту роль я придумал себе сам. Всех остальных я тоже распределил по ролям. Везунчики, любимчики, подхалимы, крутые, мерзавцы, порядочные… Была пара ребят, которые больше всего подходили под категорию порядочные мерзавцы. Наблюдателем я считал себя сам, ребята же называли меня по-другому.
Придуманные нами прозвища были почти у всех. Они заменяли привычные имена. Нейтральные возникали путем отсечения лишнего от фамилии. Они ровным счетом ничего не означали. Мое погоняло было из другой категории прозвищ. Оно – мой характер и портретное сходство.
Из всех прозвищ ко мне прилипло только одно – Челентано, или Чили, для краткости. Мое имя – Юра. Юра Сухих. Когда-то очередная новая нянечка сказала: «Юра… Как Гагарин. Тот тоже Юра». Быть Гагариным мне понравилось, но первый космонавт такой русский, такой славянский, а моя черная, плохо расчесывающаяся шапка волос, дополняемая темно-карими глазами и носом, который принято называть орлиным, на сходство с Гагариным никак не тянули. Челентано окрестила меня наша воспитательница.
– Ишь ты, вылитый Че-лен-тано! – произнесла она нараспев.
Лет до десяти я не знал, что ношу имя итальянского актера, думал, что отзываюсь на что-то оскорбительно-пренебрежительное или даже ругательное. Если честно, мне было почти все равно, как ко мне обращались. Я жил по принципу горшка, которому и печь не страшна. В этот детский дом меня перевели в шесть лет из другого, того самого, где Ленка обозналась. Сам детский дом располагался в перестроенном здании детского сада. Внутри наше жилище было чем-то похоже на подводную лодку – то ли тем, что было много отсеков-комнат, то ли низкими потолками над той частью коридора, что вела к столовой.
Этот коридор на первом этаже так и прозвали – «подлодка». Низкие потолки там гнетуще давили своей близостью к тому, кто шел под ними, заставляя порой инстинктивно пригибаться в тех местах, где поперек были проложены балки. Стального цвета пластины скрывали коммуникации и служили норами любопытным хвостатым обитателям – крысам. Металл неприятно отсвечивал ржаво-тусклым блеском. Куча закрытых входов-выходов наводила тоску. В одной из четырех групп рядом с «подлодкой» и прошло мое отрочество.
Лодкой здание было только внутри. Снаружи – просто детский сад, но без привычных ярких горок, качелей, грибов-песочниц. Громоздкие некрасивые решетки охраняли окна кабинета директора и изолятора. В первом случае они несли службу стального стража ценностей от посторонних глаз и опытных рук. Во втором – оберегали заболевших и помещенных на карантин от желания пойти поболеть где-нибудь на свободе. Таковых обычно не находилось. Да и за провинности в изолятор редко кого поселяли. Как-то водворили туда Оксану, девицу тринадцати лет, влюбившуюся, как на грех, в какого-то взрослого дяденьку. Дяденьке пригрозили милицией, а Оксану отправили в изолятор, чтобы она остыла там от любви. Утром в изоляторе Оксанки не оказалось. Ей каким-то чудом удалось протиснуть свою весьма пышную фигуру между прутьями. Разыскивать долго не пришлось. Возлюбленный привез Оксану лично, заверив, что «невиноватый он – она сама пришла». Оксанка плакала. Наверное, от предательства.

