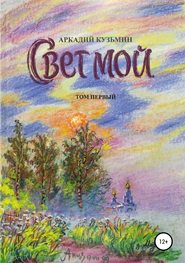скачать книгу бесплатно
– Спасение – в наших способностях. И – в твоих.
– Ну, откуда ты знаешь, что способен я и на что? – с досадой противился он, будучи в скверном настроении.
– Я-то знаю это хорошо, сынок, ты не волнуйся… – загадочно произнесла гостья небывалая, добрая. – Ум ни дать никому, ни взять ни у кого.
– Да кто же ты такая, что так говоришь?
– Уж такая я – твоя … – и совсем-совсем истаял ее голос в воздухе. И сама она как испарилась. Остался он, Антон, один. Помнил он: где-то тут, должно, могла быть и мать его; но ему теперь – при тяжести раздумья – не было и дела никакого до нее. Он, пень, не повернулся даже! Это он помнил отчетливо.
VIII
Когда старший лейтенант Поповкин, вновь назначенный батальонный помполит, узнал, что троица его кадровых матросов вольготничала, занимаясь без его ведома в Базовом клубе чем-то своим и свободно – напоказ всем – фланировала через пропускной пункт, приходя обедать, со словами, бросаемым дежурным: «Тэжэ» (т.е. «те же»), это его взбесило. Да и разве могло понравиться такое, если руки сами собой сжимаются в кулаки и хочется немедля навести неукоснительный порядок. Казарменный. Что и быть должно.
– Вы нарушаете злостно дисциплину и разлагаете личный состав, – заявил он, вызвав их, раздувая рыжие усы. – Почему вы шастаете в клуб? Что, политотдел обязал?! Я выясню!.. И спуска не дам! А могу и запретить вам эти походы творческие, неслужебные.
– Будто Вы не видите, сколько мы делаем внутри рот, – возразил Антон.
– Ну, поговорите мне…вольные художники! Все! Идите!
Нужно сказать, что малорослый, случайноиспеченный должностник Поповкин, поразительно напоминавший желчного живчика-буравчика, сразу не обдумывался ни в чем, а действовал сгоряча, по прихоти своей, как нравилось ему и он считал нужным; просто мозг его требовал от него: травить, не пущать, прижать к ногтю непокорных. Его самого некогда так воспитывали – через ремень и брань. И ничего – человеком стал! Он был истинным неугомонным разрушителем чего-то целостного, устоявшегося, живущего слаженной жизнью независимо от его желаний.
Конечно же, он не мог запретить то, что от него вовсе не зависело; тем не менее, он пытался, напустив туману и пугнув на всякий случай, ущучить матросов в чем-нибудь другом, когда политотдел подтвердил необходимость их участия в выставке работ, т.е. вроде бы покровительствовал им, разгильдяям, не иначе. А поскольку они не ходили у него по струнке, а он все-таки имел немалую власть, то он продолжал порочную мелочную обструкцию против них: старался прищемить, пугнуть, придавить их в чем-нибудь. Так, регулярно давал команды дежурному по роте, чтобы отправить Кашина (его он особо невзлюбил) на камбуз – на чистку картофеля и т.д. Это-то – на четвертом фактически году его службы – намеренное унижение. Антону при виде неистово бурлящего Поповкина каждый раз хотелось воскликнуть: «Сгинь, сгинь с глаз долой, нечистая сила! Не засти свет!» Однако эта нечистая сила еще долго преследовала его, охотясь вожделенно, хоть и безрезультатно всегда.
Словно бы в подтверждение реальности начальственных угроз однажды провели на плацу показательное разжалование старшины 2-ой статьи в рядового. Для чего всех матросов и офицеров выстроили и подали команду:
– Смирно! – зачитали циркуляр: – За систематическое нарушение воинской дисциплины и за уклонение от обязанностей командира отделения… Основание: ходатайство старшего лейтенанта Поповкина.
– Вольно! Старшине второй статьи Мамонову выйти на три шага вперед из строя! Мичману Добродееву срезать погоны у старшины! – Ему подали лезвие, завернутое в бумажку. И он стал возиться с ним, прилаживаться, не зная, как ловчее срезать погоны на плечах фланельки у Мамонова. – И командир опять скомандовал: – Помогите же ему! Что тяните, канителитесь!..
Спустя недели три двое приехавших в клуб вихрастых мужчин-художников – по-тихому обошли выставленные в фойе работы балтфлотцев, посудили, посоветовали им, студийцам, совершенствовать свои навыки и отобрали нужное количество их работ для Московской выставки. Все решилось за какие-то минуты.
В мае 1953 года, по возвращении из отпуска в часть, вечером, Кашин вдруг услышал от ребят ошеломительную для себя новость: вроде бы, мол, его, одного, демобилизуют на гражданку! А начальство ничего не сообщило ему и не подтвердило – хранило полное молчание. Но кто-то подсказал ему вверную, что нужно для точного выяснения новости ему самому сходить в первый отдел. Антон, не мешкая, отправился туда. И там, в главном (парадном) корпусе, за какими-то дверьми, куда он вообще впервые попал, особист, строгий рядовой матрос, спросив у него, кто он такой, сказал кратко-сухо:
– Да, есть решение-приказ. Будем оформлять документы на твою демобилизацию. Завтра вызовем. Гуляй!
– По какой же статье?.. – Антон не мог поверить в радостно случившееся…
По хорошей… Не волнуйся…Тебе еще дальше учиться нужно…
Да и сам Антон уже догадался, что теперь, после смерти Сталина, возможно, исправляется (хоть и с опозданием) несправедливость, допущенная военкомом при призыве его несколько лет назад, о чем он писал тогда в ЦК партии, и за что его пытались усовестить штабисты. Погрустнели товарищи, еще должные невесть сколько прослужить до демобилизации. И даже – старшины-«старики», отслужившие свой срок, но продолжавшие отныне служить сверхсрочно – вынужденно, неотвратно. Потому как, главное, не имели достаточного образования и никакой стоящей гражданской специальности. Они боялись могущих быть жизненных трудностей, с которыми могли столкнуться. Был для них замкнутый круг…
Антон сочинил телеграмму матери с просьбой к братьям (младший – Саша – плугарил, а старший – Валерий – железнодорожничал) – выслать ему взаймы хотя бы сотенки полторы рублей. У него-то имелась лишь тридцатка – все матросское жалованье. И занять деньги было не у кого.
IX
– Послушай-ка, Антон: может, это и используешь уместно как писательский материал… – С сожалением и пронзительной ясностью вообразил себе Кашин (ему частенько слышались происходящие в его голове чьи-то монологи, споры) – вообразил один рассказ Кости Махалова, бывшего разведчика Дунайской Флотилии и своего бывшего самого близкого дружка. – Приснилось мне, что высадились мы, морячки, на берег с десантных шлюпок, и я уже расстрелял в бою все патроны, в одиночку бегу по верху какого-то скоса, какой бывает у полотна железной дороги. Бегу, понимаешь, безоружный: отстреливаться мне нечем! На склоне – сжавшиеся кучки по-трое, по-четверо безмолвно сидящих мужчин, огороженных выше, за ними, металлической сеткой. По другую сторону скоса – на небольшой возвышенности – ряды вовсю горящих печей; на них, прямо на открытых красных угольях, лежат мои матросики, в одних тельняшках; сверху они желтоватого и стального-синеватого цвета, снизу – искрасна горящие и тлеющие, как и сами уголья. Точно сплав однородный. А издали уже черной стеной немцы наваливаются – ломят; в той черноте проблескивает сталью их военная техника, оружие, слышится лязг гусениц. Это подгоняет меня. Я спрашиваю на бегу, запыхиваясь:
– Братушки, где можно укрыться мне? – Сам-то уж не вижу, где возможно сделать то. Нет же никаких заград! Ничегошеньки!..
– Если ты, браток, очистился в бою, то возьмем в свою компанию, – враз – хором – отвечают мне двое или трое лежачих.
Бегу зигзагами меж этих огненных могил, кричу сипло:
– Да уже очистился я, очистился!.. Где укрыться? Помогите!..
И тогда двое скоротечно гомонят:
– Вот давай, браток, сигай тут между нами – мы подвинемся чуток.
А мне, понимаешь, Антон, и боязно лечь – как-никак и во сне я понимаю трезво, что это лежит мертвая братва, мои товарищи, а с другой стороны – уже фрицы рядом: вон блестят их замасленные рожи иступленные, пулями они вот-вот угостят. И упал я, не раздумывая, спиной на огонь – в серединку двух братских тел, принявших меня. И пламени и горения не чувствую нисколько. И только страшусь уже за тех сиднем сидящих дальше, на откосе, лишенцев, кого я не смог защитить, как воин… Каюсь… Но к тому-то сорок четвертому году было нам, ребяткам, всего-навсего по двадцать одному годку, а кому-то и того меньше… Надобно б всяко учесть…неопытность нашу… Хотя достаточна, скажу, была обстрелянность…
«У кого же из знакомых некогда вел Костя со мной этот разговор? – поразмыслил Антон. – Мы толковали в коридорчике. И там дверь туалета была красочно обклеена сверху-донизу водочными и винными этикетками, а во всю стену солидно топырился стеллаж, набитый книгами с отменной прозой: хозяин был библиофил, юрист, любил и собирал издания. Ах, то было у Генки Ивашева однорукого (в бою под Нарвой отрубило ему руку осколком) – у него мы собирались чаще всего… Прекрасное общество друзей закадычных…»
И тогда же, помнится, еще некая Вилора, молодящаяся, порхающая в пятьдесят девять лет дама, выстаивавшая по системе упражнений йоги по часу в день на голове, донимала никчемным разговором Антона. Она недавно женила на себе тридцатилетнего мужчину, ровесника своего сына (первый муж ее – поляк – трагически погиб в 1937 году). И она завсегда говорила много, быстро, восторженно и бестолково. Это была ее болезнь – так поговорить с людьми, как казалось ей, – оригинально. Много и быстро она говорила потому, что боялась, что ее не дослушают, и поэтому она спешила все сразу – существенное и несущественное – высказать; восторженно – потому, что, несмотря ни на что, хотела показать всем, какой же тонкой, все понимающей натурой она была; а бестолково это было потому, что в разговоре все было смешано, малозначительно. И от этого Антон никогда не слушал ее – он не понимал, о чем она говорила. У него при ее словах, как от ритмично-неестественного шума, тотчас заболевала голова; он лишь смиренно ждал спасения, того момента, когда это кончится, или просто прерывал беседу. И так было лучше всего. Однако в этот раз его чутко спас от нее Махалов – и вот взял и рассказал свой сюжет сна.
– Слушай, мне приснилось подобное, – извинительно присказал Костя, – возможно, из-за того, что ко мне на той неделе приехала с цветами венгерка из Будапешта; она-то, знаешь, разыскала меня, как героя, который ее Венгрию освобождал. И представь – показала мне презанятные фотки: красуется на них моя могила с памятничком… Прижизненная, так сказать… Воистину.
– Что, выходит: тебя убитым тогда сочли? И тело другого могли захоронить?
– Возможно. Нелепица. Но с чего и началось: она, видя могилу и прочтя надпись, патриотично возжелала выяснить главным образом то, каким я, оторва, замечательным юношей (ты понимаешь!), – Костя засмеялся, – был до той минуты, как погиб. Неотступно запрашивала всех и в конце-концов узнала, что я жив! Представляешь, какой сногсшибательный поворот! Докопалась до чего… Что тут египетские раскопки! Да, я Пешт освобождал – однозначно, и в нем-то тогда коварно подстрелил меня власовец – из числа тех нелюдей, изменников, коим несть числа и с кем нынче меня призывают чуть ли ни лобызаться приятельски. Мол, нужно понять и их отвагу: они-де шли против самого Сталина…Но этот гитлеровский выкормыш именно в меня всадил пулю. Я, атакующий, бежал через банковское здание; он впереди мелькнул, прокричал мне:
– Не стреляй, браток, – свои!..
Я чуток опустил автомат. И он, шкура, полоснул меня… Проучил на всю жизнь… За что? Оплачивал сытную похлебку?.. Ведь известно: чужим служат усердней, чем своим. И вот, значит, теперь милая венгерка средних лет приехала ко мне с поклоном…
Только, пас, я не могу, не могу геройствовать в чьих-то глазах. Да, мы, ребятки русские, по долгу совести освобождали от дерьма Будапешт. Наши солдаты пол-Европы, если не всю Европу, освободили от нацистов; положили сотни тысяч своих жизней, несравненных, цветущих. В одной Польше – под семьсот тысяч. Хорошо ли знают и помнят об этом свободолюбивые европейцы-задиры? Они все предъявляют нам, русским, различные счета, а этого не считают и не помнят о своем участии в агрессии против нас. Людьми и оружием…
– Дескать, не из-за чего, – сказал Антон.
– Да, какая-то мелочь…
– У них был культурный, европейски образованный правитель, и они же культурно все это делали. Например, они, блокируя Ленинград, даже не бомбили его, в отличие от немцев; не их вина, что здесь погибла почти треть жителей от голода. Зато теперь преотлично можно приехать сюда на денек и кутнуть. Да, подумаешь, еще одна дивизия – не немецкая – здесь оказалась. А из не немецких мортир обстреливали немцы город. И, подумаешь, бесились прибалтийские парни – эсэсовцы, маленько занимались расстрелами евреев, белорусов, русских, гуляли в чужих краях, спасая якобы свой…
– Позволь, друг, еще досказать… В Пеште мы самолично – по зову души – бесшабашно рисковали: под обстрелами скорей-скорей вывозили с хлебозавода муку и раздавали ее голодным горожанам, сидящим по подвалам, – старались подкормить их. Было такое. Было! И зато теперь я с радостью показываю приезжей иностранке мой гордый Ленинград – все, что есть у меня, чем богат. Иного не имею. Не нажил. Как все мы. Не наша в том вина, дружок.
– Я добавлю лишь, что нынешние гробокопатели тащат всех в бездну беспамятства, все фривольно переиначивают и ищут настоящих героев по ту от нас сторону. Овладела умами ностальгия по святочной рабской жизни. Ох-хо-хо!
– Ой, тоска зеленая! – вздохнул кто-то из женщин. – Права, права Люба. Вообще мы страшно живем. Во-о! Умники наши – двуногие!
– Слушай, Антон, а как твой отец погиб – ты так и не знаешь ничего?
– «Пропал без вести» – значилось в извещении, полученном весной сорок третьего. И все. Попал, верно, в мясорубку на Невском пятачке… Сюда его направили…
– И как же ваша мать без него все вынесла, вырастила вас, шестерых, людьми? Вот кому следовало бы поставить памятник…
Сон ли то прекрасный и дурной – наш век двадцатый-двадцать первый, сумасшествующий в самообмане, войнах, обогащении, мировых открытиях, новациях и разврате полном – пожирающей черной дыры в человеческом сознании, век потерянных поколений, неиссушенных слез и шутов – циников, посредников балагана? Стремительно летишь ты в тартары, теряя естество бытия земного, позволяя людям лишь вопрошать бессмысленно: как дальше жить? Зачем и для какого лиха жить? Не накроют ли нас сейчас обломки нашего хваленого рая – обломки от чьих-то крутых вожделений и разборок?
X
При жизни отца, Василия Кашина, и вместе с ним тогда мальцы Валера и Антоша впервые ночевали в ночном у костра; вышло, что сюда они уже затемно подвезли, уставшие, плетясь за фурманкой, срубленный (в дальнем лесу) стволовой осинник, несший какой-то вязкий огуречно-плесенный запах. И здесь они выпрягли вороную и, стреножив ей путами передние ноги, пустили ее пастись ночь на поляну, тонувшую в неоглядной синеве затаенного мироздания с лишь едва уловимым пульсирующим, точно кем-то управляемым, серебристым потрескиванием сверчков.
– А, Федотыч! Просим, просим к нашему костру, присаживайся вот… Хочешь закурить, Федотыч? А-а, и помощники отцовы, малы молодцы!.. Ну, подсаживайтесь к огоньку – славное местечко, грейтесь, отдыхайте детки… – Зарадовались трое мужиков новоприбывшим, словно редкостным каким гостям. Беспокоясь, подвигались.
В летнюю страду хозяйственные колхозники ехали по своим делам вечером, отработавши день (из-за нехватки лошадей и рабочих рук). На обратном же пути они, подгадывая, подъезжали с возом к ночному пастбищу, с тем, чтобы лошадь за ночь подкормилась травкой, отдохнула и чтобы самим им поспать-вздремнуть; а раным-рано они снова впрягали сивку-бурку в телегу и вовремя доезжали до двора – без всякого ущерба для полевых работ…
– Постой, Захар, я не могу свернуть папироску с махоркой – сыплется, неладная, – говорил отец густым голосом. – Пальцы-то мои как чурбушки… Огрубели… Намахался, вишь топором… Оттого… Сейчас отойду… Уф!
– Знамо все, Федотыч. Большая семья – большие и хлопоты…
– Да, нужно достроить свое гнездо…
– Сладишь, не тужи! Руки твои – ко всему привычные… Дай бог!..
Ловкий и сильный отец среднего роста, но плотного телосложения, в возрасте, перевалившем за сорок лет, был любим товарищами всеми; все мужчины, вплоть до ярых драчунов, у которых он, усмиряя их, запросто финки отбирал, относились к нему уважительно, а все женщины – и приветливо, – авторитет его был очень велик из-за его высокого нрава, трудолюбия, сноровки и обязательности. Он был всегда хозяином положения и слова своего, и, казалось, не знал неразрешимых трудностей ни в чем.
– Ну и что ж, Василий, – вкрадчиво спрашивал, однако, дядя Захар, картавя: – этот дознаватель, кто намедни вызвал тебя на скорую расправу, признал, что это был навет на тебя, коли отпустил?..
– Я сказал в открытую, – говорил отец: – «На Руси не все караси, есть и ерши. А бездельники колхозные – белоручки всем видны. Они горазды только языком молоть, грозить красной книжицей, им – запросто наплевать на урожай, на все… Как угодники святые устроились… Не дыши на них, не тронь их, не скажи что поперек… Не по нутру… Разве это дело?»
– Так что ж?
– Он только язык пожевал. Пустил искры из глаз. Но не замел меня, как видишь, хотя я и с узелком уже пришел – Анна собрала… В третий раз…
– И-и, дружок,! Не от нас свет начался… И не от Египта… Созревают всякие плоды… несъедобные…
– И быстрехонько как. Оглянуться не успели.
– О, господи! Наш-то Андрейкин, председатель, уже ходит генералом. Генерала корчит из себя.
– Да, руку поднимает, а смотрит нелюбезно, искоса. Он попер на меня: «У-у, ты башковитый, хоть и неученый; с тобой не поспоришь…» Я и объявил ему: «Думаете – сели на шею – и не слезете… Вот до оврага я вас довезу, а там и сброшу в омут…» Конечно ж, он взъерепенился…
Валера и Антон лежали около весело трещавшего костра, завивавшего дымок горьковатый; бархатисто-черное небушко разливанное, в ясных и мигавших звездочках – истыканное, стлалось ширью необъятной и захватывающей воображение; поблизости всфыркивали и выщипывали траву пасшиеся лошади, они медленно передвигались; курили, разговаривали мужики. И уж пробирала Антона мелкая дрожь – не столько оттого, что зябко спине становилось (а они ничего, чем можно было бы накрыться, не взяли с собой), а, сколько от еще неизведанной им прелести ощущать все это рядом с взрослыми людьми, чувствовать себя причастным к чему-то важному, хорошему. Когда он глядел на звезды, просыпанные в вышине, то почему-то – удивительно! – зримо видел перед собой маму, видел в пору ее молодости, еще до замужества, какой она была на фотографии, – женственно-хрупкой, строгой, в белом длинном наряде, – прямо писаной красавицей. И что-то вечно молодое и мучительно неразрешимое в то же время было в ее взгляде. Мерно стрекотали кузнечики, мерцали звезды, падали, сгорая, звездочки; неслись, угрожая врезаться в землю, как Тунгусский метеорит, кометы – великое их множество; где-то умело разговаривал Дерзу-Узала со зверьми, рычал, вздымая волны, океан, боролся с одиночеством Робинзон Крузо, жили отверженные люди… Непредсказуемый мир, где надобно ходить, разогнувшись, а где присмотреться и пригнуться вовремя – получится ли так? Печально, но Антон в детстве даже дурных собак боялся почему-то.
Ни тебе ни паровозных гудков, ни гула пролетавших самолетов, ни лихой музыки, ни выстрелов, ни ругани людской, ни детского скулежа, ни страшных, бытовавших рассказов об отрубленных руках воров или даже голов, подброшенных к дверям, ни запаха керосина, не размызганных помоек. Лишь изредка стрелял костер. И слышно шептал толстяк-одноклассник, близоруко оглядываясь с парты к Антону, – шептал умоляюще-требовательно:
– Дай списать! Дай скорей списать! – И учительница уж подходила.
Валера спал. А мужики еще тревожно гомонили.
– Не должно бы повториться…
– Ой, как бы не так!.. Все в огонь подбрасывается… Вон в Испании…
– Неужели и сюда пожар перекинется? Пойдет щепать?..
– Ой, не говори: немца от войны не оттащить.
– Ты вот строишь все, Василий… И детишки небольшие,
что и у меня… А ведь, если загорится, то придется же и
нам пойти… Уже на третью…
Куда ж денешься?.. – И отец слышно вздохнул оттого, что такое могло быть. – Но все-все-все! Хватит колотиться зря! Пора и подремать.
Так невзначай подслушанное у костра стало для Антона неделимостью мира беспокойного, и в его детском сознании начинала ярко пробиваться истина о том, что жизнь не безмятежна, не застыла вечной, только кажется такой сначала; в ней-то много страшно неразумного, что могло коснуться всех. И вот греешься у костра ее до тех пор, пока можно греться.
Очевидно, пропустив свой урочный час, да и с непривычки, еще не приноровившись, Антон никак не мог найти удобное для себя местоположение, чтобы заснуть; то было неловко ему лежать в рубашке на земле, то у него что-то мерзло или же немело вроде бы, и он все ворочался, ерзал и костил в душе себя за свой характер впечатлительный, тогда как Валера спал около него, лежа калачиком, и успокоенно прикорнули тоже все большие. Антон же крутился, сжимаясь в комок (но, стараясь никого не беспокоить), – к огню поворачивался то лицом, то спиной. И то грело его спереди сильно, чересчур, зато холодило сзади, то наоборот. Временами же он проваливался в настоящий сон, забывая обо всем; а временами в полусне слышал, чувствовал, как кто-то заботливо подносил хворост и подкладывал его аккуратно в костер, чтобы тот не гас, как подгонял поближе лошадей и накрыл его, Антона, не то какой-то мешковиной, не то куском брезента. Перед близким рассветом, когда в сизоватой расступившейся мгле стали уже видно проступать темные округлые спины и гривы лошадиные да повозки нагруженные, да ближайшие кусты, и когда насторожилась тишина вокруг, костер почти совсем затух – лишь угли посылали в воздух немного пепла, если к ним протянуть-приблизить руки. Все еще дремали, сонные.
И какой же длинной, непохожей на все прежние, какие помнил, показалась Антону эта ночь! И какой безмерной!
XI
– Сейчас, сейчас я расскажу…
Федор Терентьев, бывалый мужчина в летах, с обветренным лицом и крепким рукопожатием (и сам ладно сбитый), в седом костюме, – москвич, приехавший поездом к постояльцу Кашиных, Илье Нефедову, своему двоюродному брату, который отсидел тюремный срок за нелепую кражу (из-за желания продать, чтобы выпить) какого-то слесарного инструмента из цеха и был выпущен на волю, но выслан из Москвы за двести сорок (по сути) километров под надзор милиции, – этот человек легко сошелся в разговоре с Василием, младшим, как выяснилось, собратом-солдатом по той войне. Федор заметил лиловый рубец на локте Василия. И спросил у него:
– Оттуда отметина? Понимаю…
И бывальщина эта объединила их за ужином на кухне. Правда, сидящий тут же, на пристенной скамье, и жующий сухощавый Илья был молчалив и даже сумрачен, а Анна слышала их разговор мимоходом, зато Валера и Антон – с жадным интересом. Василий сказал о том, что он все семь лет отбухал на защите Отечества; там коротались дни такие, что после каждой волны штурмовой в роте оставалось в живых лишь дюжина «стариков» каждый раз. И опять, и опять их пополняли и бросали в бой. А однажды (на Украине) и грозил ему очевидный плен: их разбили начисто, и он в подсолнечнике таился ночь. Немцы же прочесывали поле, выскребали солдат… А утром он с товарищем – была-не была! – поползли в сторону вышки, где и оказался на счастье наш пост.
– А меня пленили немцы еще в пятнадцатом году, летом, – признался Федор, разговорившись.
– Ничего себе!
– Да, до сих пор не могу простить себе этого позорища: в отключке был… Тогда была такая карусель смертельная. Ой! Мы, солдаты царские (я артиллерист – заряжающий) месили земли прусские: бились тут сряду трое суток – не спали. И вначале наши части наседали на немецкие, а после отбивались уже от них беспамятно. Потом бог нас пожалел: затишка опустилась на весь наш обессиленный от содрогания фронт. Темнело быстро. Атак не было. Ну, сгреб я чехол брезентовый – орудийный (с пушками мы в дубраве притулились) да и завалился под толщенный ствол дуба, в ямку; в тот брезент завернулся с головой – помыслил: поспать бы часок! – и разом отключился начисто: проспал огневой налет. А проснулся – уж светлынь восходит, и, вижу, все вокруг – на тебе! – жутко раскурочено, вздыблено, перепахано и страшнее всего – товарищи убитые раскиданы. Побиты даже все столетние деревья. И лишь целехонький чернел надо мной –высился, топырился бахромой огромный дуб (упирался в облака): он-то при обстреле, точно, защитил меня. Иначе была б мне хана… И везде уже рыскали ретиво германские пехотинцы, постреливали их голоса все ближе, ближе. Ну, и заарканили нас, горемык, смертью милованных. Выстроили в затылок, и, выставив по бокам колонны поводырей-стрелков, по-быстрому погнали к западу.
В спешке вброд по горло переходили речки. Нас кормили горохом. Разваром. Кружку выпил, поставил – дальше, камрад, топай. Weg! Weg!
В Пруссии всю пятилетку мы, пока сидели, все благоустраивали немцам – нас водили по работам, И вот какой раж они выказывали перед нами при сем. Конвоир ведет нас и все долдонит над ухом твоим – расписывает, как они умело победят нас, русских, – победят всегда! Если ты молчишь, слушаешь его безропотно, без возражений (вроде б, значит, соглашаешься молчаливо с ним), – то набьет яблок с яблонь, где аллеи, даст тебе; если же ты, не дай бог, только возразишь ему чуток, тогда и набьет яблок под ноги, но попробуй подыми хоть одно из них, – безумно закричит:
– Nicht! Nicht! Schwein! – Затопает сапожищами. Заскрежещет зубами. Карабин в грудь твою упрет стволом. Прямо взбесится, ирод.
Ну, такого свинства я, естественно, еще нигде не видывал, не испытывал.
– Дурной воин – дурное и понятие, – сказал Василий.
– Или, – бывало, топаем себе в поселке, – глядь, и цивильные немцы высовываются, глазеют, подзывают к дому своему, – продолжал Федор. – Для того, чтобы им похвастаться перед недругом – Иваном непутевым своим обустроенным жильем и превосходством, значит. Говорят, сияя: дескать, видишь сам, какая красота у нас. (Как не видеть!) А что же, интересно, есть у вас? Верно, у них каменные все строения, черепицей крытые; сады и посадки расквадратены, зарешетены, всюду чистенько. А в мужичьей России серой, полуразрушенной, – избенки, хатки соломенные на курьих ножках; а одна тесничинка так прибита, другая этак, или чаще всего – стоит что-то наподобие овина, а не жилья. Но я их живо разоскомлю для-ради интересу. Говорю – и вот показываю себе на лоб пальцем:
– Во! Надо ж понимать… Нищий медяком все хвастует, а богатый золотого не покажет…
Ха-а! Один немец бесится, с кулаками ко мне подступает, а другой его уламливает:
– Дай же сказать ему! (То есть мне).
– Надо ж понимать, – я продолжаю свое. – Вы умный, практичный народ, но до русского народа вам далеко. Попомните мои слова. В ста верстах отсюда граница проходит, а вы вона как строитесь и еще хвастаетесь. Да еще хотите снова воевать с нами – у вас такие умыслы. Одна Weltkriege (мировая война) прошла, но и другая Weltkriege будет вами начата.
– Warum?! (Почему?!)