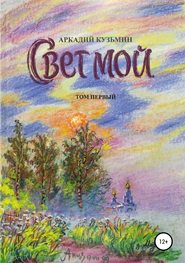скачать книгу бесплатно
– Был зелен, неумен и глубоко неправ; если в чем-то ты бессилен, чувствуешь, – тут незачем вести философские беседы…Ты давно – и скорей, чем я, – определилась. Разбираться нечего… Ну, и как живешь? Вижу по нарядам, что довольна… Рад, что не заблудилась…
И, пока они прохаживались вдоль канала, шурша листьями опавшими, Ольга сообщала ему впопыхах о том, что ее муж, директорствовавший в школе (куда Антон – надо же! – и устроил ее, Ольгу, учительствовать по окончании института Герцена), – ныне спортивный комитетчик, босс (номенклатурщик, значит) и что их сын почти двухметрового роста, что и отец, с тем же зычным голосом, уже служит офицером. А она успела объехать же полмира. Побывала в Париже, в Риме и в Нью-Йорке, и в Греции даже.
– Да, Оленька, живем уж так, что Родины своей не узнаем и не хотим ее признать, – вырвалось у Антона. – Растрепанные все несемся в Париж… Надо прошвырнуться, засветиться там – потрафить эгоизму своему… Мотаемся в погоне за чужими красотами, а свои заплевываем, топчем их. Вы что – шибко голые? Дворники или поэты? Завидуете тому миру, что поприличнее одет?
– Ну, уж скажешь ты! – обиженно надула Ольга щеки.
– Но тебя ж прельстила, видимо, безбедность твоего существования? И теперь ты норовишь лишь похвастаться этим-то передо мной? Однако я плохой коллекционер всяких «ахов». Лучше-ка скажи, как родители живут.
– Папа давно умер. – Ольга привздохнула. – Шел из бани – простудился. Схватил воспаленье легких…
– Сочувствую тебе и Зинаиде Ивановне…Она одна живет?
– Мы ее не оставляем… И возьмем к себе…
– Одной-то ей горестно, знать…
Поздней Ольга растерялась от свалившихся на нее несчастий и невзгод.
«Жизнь проблематичная, – рассуждал Антон сам с собой, шагая по дорожке. – Отчего ж мы сами себя обманываем и обманываться рады? Бродим в потемках осознания, ровно в тупиковом сне, пробираясь по каким-то заброшенным лабиринтам; вокруг веет сыростью, затхлостью и забвением. И видишь сутолоку, перебинтованного морского пехотинца – вроде бы безунывного Костю Махалова и бегущего со страхом во всю прыть капитана первого ранга – с рапортом и честью к адмиралу; и видишь тут смеющуюся Ингу, жену Кости, тоже уже почившую… А такое и привиделось потому, что беспокоен-таки напарник по санаторной комнате…Не повезло…»
На тебе – рабочий-заточник, но поступал, как таежный динозавр; он первые три ночи вообще будоражился – почти не спал; много кашлял, беспрерывно выходил вон, чтобы покурить, и входил, щелкая дверью и щеколдой; шумно двигал конечностями, задыхался, запивал водой из графина лекарства. Как вскоре он скупо объяснил, он нипочем не может сразу попривыкнуть к новому месту ночлега, словно подвергается пытке. Да и потом он вел себя шумливо, дико, как бы не замечая никого (не здоровался по утрам, не прощался ни с кем), лишь звуками давая всем знать о своем земном существовании.
По аллеям этим еще в тридцатые годы легко похаживала молодая Янина Максимовна, учительствовавшая Любина мать.
Странно, что Антону также приснилась Инга. Повод – тоже ее вспомнить?
Да, как-то раз в мае к приехавшим сюда, на пляж, на денек Антону и Любе присоединилась целая орава знакомых: Костя Махалов с Ингой и сыном-подростком Глебом, их родственники и Ефим Иливицкий со знакомой Майей. И вот было, что за пляжной трапезой, когда все болтали непринужденно, кто-то заговорил о супружеской верности, а Люба с веселостью и рассказала без всякого умысла о том, как однажды (в период своей размолвки с Антоном) она зашла в «Север», чтобы пообедать, и что же она увидела тут: невдали, за столиком, – ее верный, нежный Антон с приятелем в обществе какой-то девицы! И они-то всячески ее обхаживали! Вином потчевали!
– И, конечно, мой Андрей был там? – вспыхнула Инга. – Уж признайся!..
– Нет, не знаю, кто, – опомнилась Люба. Они взаимно недолюбливали друг дружку с самого начала их знакомства. Инга была ревнучей – ужасно. Ей льстило, если вокруг увивались ухажеры; но, не дай бог, если в роли ухажера других женщин (как и бывало) оказывался собственный влюбчивый муж, которого она не любила, а воспитывать – воспитывала по-своему, зная его слабости. И поразительно: он, удалой товарищ, храбрец и остряк, невиданно пасовал перед ее напором и скандалами по пустякам. И теперь он нервно молчал.
– Ну, и что ж ты, Люба, сделала, увидав такое? – спросила Инга с вызовом.
– А ничего. Полюбовалась на них. Пообедала и ушла.
– Нет, не признаю! – воскликнула Инга, состоявшийся юрист как-никак. – Я бы подошла к их столу, дернула за скатерть и всю-то еду и питье опрокинула на них. Знайте, мол, ревность…
И все рассмеялись от этих ее откровенных, несдержанных слов.
– А ты еще говоришь, – сказал под смех Антон Любе, – что пора всю власть отдать в руки женщин… То ли у нас будет!..
Даже сама Инга засмеялась, оттого что переборщила малость…
Тем не менее, сейчас Антона волновали многие несоответствия житейские.
ХХ
В предвечерний час, как Антон приехал домой, новенький, гладенький и вылизанный хвастун, что яичко (прямо ж гоголевский щеголь), давал телеинтервью, сидя за черным столом, перед стильно причесанной журналисткой; он бойко, с блеском глаз, хвастался тем, насколько полезны они, избранники, слуги народа, наблюдают за законностью действий городских властей. Они, все сами видят, понятливы, демократичны и интеллигентны – на заседаниях своих не дерутся, в отличие от думцев, на кулаках и не таскают за волосы женщин. И достойны великого города, не позволят ему пасть безответственно – без власти надлежащей, уж будьте спокойны!
– И где только пекутся такие персоны?! – У Антона даже испортилось настроение надолго. Он выключил телевизор.
К тому же добавилось и Любино саможалейство. Она вновь сказала:
– До чего надоело так жить! Вижу: дура я набитая, что три десятилетия назад, когда у нас не было еще дочери, не уехала в Германию, чтобы пожить нормально, припеваючи, как советовала мне Ксения, сослуживица; она-то, молодец, сумела и детей – дочь и сына – туда выпихнуть и сама успела, бросила в Ленинграде все. Правда, все-таки продала квартиру…
Антон уж не вздохнул, а само собой у него аж задержалось дыхание: худшего сожаления, на его взгляд, она не могла и придумать! Ведь в сорок первом, когда наподдали немецким воякам под Москвой, он, двенадцатилетний малец, язвительный перед ворогами, трусливый, но не плачущий вовсе, стоял возле колодца, у своей избы, под прицелом у взбесившегося закоченевшего на морозе гитлеровца, который все не мог палец просунуть к спусковому крючку карабина… И стольких варварств немцам он с тех пор не мог простить ни за что. Никогда!
Но Люба ничего подобного не хотела знать и слышать – она относилась ко всему, что касалось мужниной жизни, настроений и даже творчества, как к потусторонним, частью придуманным или неудачно предложенным свыше, а потому незначащим, непривлекательным для нее явлениям, ничего ей не дающим; ее быстрые умонастроения и умозаключения двигались в иной плоскости пространства и пересекались с пространством мужа лишь в сопротивлении их понятий о жизненном благополучии. Особенно ныне, когда все из этого обозначилось ясней.
Она продолжала развивать свою мысль:
– И мама моя, почти дворянских кровей интеллигентка, получала за свое учительство пенсию в пятьдесят рублей! Насмешка, и только! Хотя при НЭПе они, будучи студентками, могли не только пропитаться на стипендию, но даже и приодеться прилично…Она нам рассказывала…
В нынешние самокритичные времена Люба, высказываясь перед Антоном умно – радикальнейшим образом – почище всех ветхозаветных революционерок – и чаще нелестно вообще о прошлом, – могла многое из жизни и ее матери и отца, которого она не любила, преувеличенно облагородить или совсем низвести по какому-либо поводу. Она словесно, не выбирая выражений, не церемонилась ни с кем, если что не нравилось ей или просто обсуждаемый человек не в том, по ее желаниям, загоне уродился и даже ходил не так. На этот счет никто не должен был заблуждаться. Никоим образом.
Да, Янина Максимовна Французова, не сословная дворянка, а мелкопоместная купеческая дочь, была артистичной, восторгавшейся и прекрасной до преклонных лет натурой и охотно рассказывала о своих занятных приключениях в молодости. И она была тоже недовольна тем, как сложилась у нее вся жизнь, предполагавшейся быть взаимно любезной к ней, как она сама, по ее понятию.
В 1920 году умерла мать Яны, и пятеро уже подросших детей остались на попечении отца и старались сами определиться в жизни. Яна, не закончив вторую ступень (с 5-го по 10-й класс) церковно-приходской школы в Рогнедино (село под Рославью), где два раза в неделю изучали закон божий, перешла на учебу в гимназию. В 1922 году, закончив ее, уже училась в Смоленском университете, куда ей дал направление профсоюз, и где все факультеты были с педагогической направленностью. На следующий год университет закрывался. Группа однокашников Яны поехали учиться дальше в Москву, в том числе и ее суженый, как все судачили, Никита Збоев, которому она симпатизировала больше, чем другим парням.
Душевный, дружески расположенный к ней Никита звал ее с собой в Москву, однако она почему-то поехала в Петербург – перевелась в тамошний институт Герцена, на 2-й курс исторического факультета (литературного здесь не было).
XXI
Для нее, двадцатилетней Яны, казалось, пришло перволетье 1924 года – время исполнения ее желаний. Было у нее теперь такое чувство.
С ним она прогуливалась около Таврического сада, и ласковый ветерок лизнул ее в лицо и всплеснул над ее головой малахит вырезных листочков лип, а, может, оттого всплеснул, что какой-то шествующий молодчина задорно скомандовал:
– Сомкнуть ряды!
Никакой же такой гулко топающей гвардии вблизи не наблюдалось. И даже иные прохожие буквально вздрогнули от столь резкой бессмысленной команды, заставшей их врасплох; и один из них – здоровяк – немедля не меняя своего движения, как локомотив, беспощадно бросил вслух:
– Идиоты долбанные! Что орут!
– Ходют тут оторвы с Невского, – добавила плывущая гражданка в рюшечках. – И ведь не шлепнешь: брысь! Ить не крысы же какие…
Яна прыснула от смеха.
А троица парней (с книгами под мышками) упражнялась в словах:
– Пардон! Пардон! Спешим догнать розочку на каблучках…
– Нас, студентиков, не понимают, истинно! Но признают…Прогресс!
– Итак, спросим: может ли любой – всякий Вась-Вась понять новоявленный модерн, максимализм в искусстве? Уверяю: нипочем! Тогда для кого ж это цветет?
– У публики, пардон, отсутствует сообразительность. И мера вещей…
– Чудненько! Шпарь искусствовед заштатный…Наш супрематист…
– Уж уволь меня, Илья, – я не могу домыслить за кого-то жанр. Бездна опрощения в картинах: совмещения с предметом нет и плоти живописной нет – плашки, рельсы вкривь и вкось положены, круги… Мысль не уловить… «Богатыри – не вы!» Увы!
– Да ты, Гарик, восхищаешь мозговитостью своей…Но ведь, кажишь, и селедка в натюрмортах есть? Не так ли?
– Послабление, как ни крути…Соблазн обывательский…
Молодые люди, вероятно, побывали на какой-то художественной выставке.
– Вон в том магазишке…Мы селедочкой разжились. Шик! – Подмигнул и, заплетаясь языком, попутно сообщил, как добрую весть, проходящий наперерез в компании подвыпивший работяга. – Эй, селедочку не урони! Сейчас мы ее с лучком, с постным маслицем… Закачаешься… – Предвкушал он скорое удовольствие. – А может, и вы того… Примкнете и пригубите? Я – Василий…
– Нам некогда, отец, Вась-Вась…
– Не робей, ребятушки!..
Опять смеясь, они прибавили шаг.
– Мы все – в постмодерне (началось то еще при царе) и жуем его, – объяснял, горячась Гарик. – Все трубят, изошлись по этой части: строим, дескать, новое счастье, долой старую форму. А середины-то в искусстве нет: либо зашифровывается суть вещей, либо расшифровывается донага. Меры-то изображения нет. Она пропала начисто. Хотя нам и говорят: подождите. Новому времени – новые песни. Все уляжется, еще преобразуется само.
– Это же палят мимо яблочка, – говорил спокойно Илья. – И такой экспонат не выставишь в храме, где молится народ. Что ж тогда профессионально должна быть и преемственность? Время доказало.
– Ну, а ты, неведомая куртизанка полосатенькая – ты гуляешь сама по себе или в постмодерне? – нагнали они идущую Яну. Она, в сарпинковой блузке с широким поясом и в легкой кремовой шляпке с чайной розочкой в ленте, в туфельках, изящно выступала под сводами крон деревьев и, услышав, вернее, сообразив, что на ней сосредоточено чье-то доброе внимание, еще чуточку подождала деликатно, не спешила открыться. В юности свойственно все принимать здраво и верить в свои силы, особенно тогда, когда в жизни складывается все удачно и появляются друзья-единомышленники и почитатели, будто ниспосланные небом.
– А-а, это вы, языкастые рыцари, как всегда балагурите? – Отозвалась, огляделась Яна. – Обсуждаете проблему жития святых или крестовых походов?
– Ни то, ни се, подружка, – сказал Гарик. – Мы вовсе не святые угодники. А стараемся поухаживать за теми, к кому у нас сердце стремится.
– Да, прямо выпрыгивает из груди, вот, – добавил Лева.
– Ах вы, невинные угодники! – Она погрозила пальцем. – Я девушка слабая, беззащитная…
Правда, правда: у этой троицы молодцов росло к Яне особое отношение; она стала для них как бы недостающим звеном в общении, в определении самих себя. У ней был какой-то шарм, с ней у них завязывалась своеобразная компания; с ней им, думающим, рассуждающим по всем аспектам бытия, было веселей, уютней и порядочней. Они чувствовали себя мужчинами и умницами, которых она не отвергала – привечала равным себе образом. Открыто. Не рисуясь. Они все сообща могли обсуждать свои проблемы и дела. Надо сказать, в их студенческой среде царил культ внешнего ухаживания. И все, что было связано с этим, воспринималось ими, ребятами, естественно, не ревниво, весело, как и подобает молодым, приветливо настроенным друг к другу, не подверженным чопорной холодности и замкнутости.
– Ну, что ж, занятия наши горят синим пламенем?
– Наверстаем, не дрейфь! На что нам соображалки дадены…
– Кстати, Яночка, к нам, троим, прибавился еще один.
– Итак, я, было, путала вас, а тут – новый сюрприз?
– Без сюрпризов нам жить невозможно.
– Где же ты вчера пропадала, любезная? – Спросил Гарик.
– Утром шла себе по улице, – охотно призналась Яна. – Услышала, как благочинный мужичок толковал одной дамочке: «Что, милейшая, начнешь с утра делать, то и до вечера не переделаешь. Поверь!» Я догнала этого мужичка и спросила с вызовом:
– Скажите мне: а я что буду делать сегодня?
– Что начнешь с утра, то и делай, красавица, – проговорил он, не сбавив шаг и почти не повернув голову.
А я вышла из дома затем, чтобы купить мыло для стирки. Ну, дома я почему-то взяла ведро и тряпку, чтобы прибраться в комнате – пол-то грязный! Надо помыть. Стала мыть – разлила везде воду; стала вытирать пол – опять воду разлила. Так почти до вечера и промаялась с приборкой да стиркой потом.
– Бедненькая! Ты же ведь, Янина, белоручка. Грех тебе с тряпкой возиться. Такие пальчики нежные, как лепесточки роз…
– Ой, не смешите-ка меня!
– Тебе приличествует, – говорил ей Гарик, – быть актрисой, читать монологи, разыгрывать сценки, по-моему.
– Да-да! – поддакнули и друзья.
– Ну вы сразу хотите поставить меня на пьедестал… Носом не вышла…
– Да это мы – носатики… А у тебя – шик – модерн… Все в ажуре.
– А что касается сценок, то и здесь их хватает…
Что верно, то верно. На каждом углу толклись, тусовались торгаши.
– Нам графьями все равно не быть. Продай, говорю, сервизик, шмот, – уговаривал ершистый покупатель продавца у столика с мелкой продукцией.
– А вдруг?.. – рисовался продавец. – Все сполна вернется еще…
– Когда рак на горе свиснет, дорогуша. И не для нас… Наш загад не бывает богат.
– Верно ли говорят, что у человека нет судьбы-знамения?
– У меня-то точно нет. – Лева был говорливый, смешной и веселый и даже проказливый, очень быстро говорящий – только успевай схватить суть того, о чем он говорил. Относился ревниво к тому, если его не замечали, не выделяли.
– А что с твоим пальцем, Левочка? – спросила Яна. – Вижу: забинтован…
Друзья засмеялись. И сам Лева – тоже.
– Крыса тяпнула, – признался он, краснея.
– Что, всамделишне? Не сказка?..
– Я не вру. Вчера по малой улочке топали. Вижу: в окошке подвала висит крыса – уцепилась лапками. За прутья металлические. И осматривается дурища… С ходу я взял и сунул ей в морду горящий окурок папироски – потушил таким образом… Она взвилась и цапнула меня за руку. Негодная тварь… Теперь из-за нее и ходи почти месяц на прививку…
– Жуть, Левочка! Вот оставь вас без догляда – вы без происшествий не обходитесь.
– «Дурак! – сказала мне и сеструха, – мог еще и желтуху схватить по легкомыслию». Она у меня тоже умная, как все женщины.
– Уж заведомо. Не геройствуют.
XXII
Исторический факультет Герценского института, куда о зачислении Французовой, как было принято, ходатайствовал перед ректором студент-старшекурсник, был на Большой Посадской улице (на Петроградской стороне). Ректорат, поддерживая идеи Рабфака, ссылался на то, что в стране очень мало подлинной интеллигенции, склонной помогать в образовании рабочему классу, а его надо образовывать по-настоящему в первую очередь на исторической основе. Яну определили в студенческое общежитие, шумное, многоголосое; у нее, охочей потолковать о выставках, нарядах и многом другом, очень скоро нашлись единомышленники и союзники. В особенности подвизалась около нее дружески троица этих еврейских парней – Гарик Блинер, Лев Кальман и Иосиф Шнарский – рассудительных и заводных. Она чем-то их прельщала, не отваживала от себя; они же каких-то неудобств для нее не представляли, в женихи не набивались. Просто воздух молодости и познания кружил им головы.