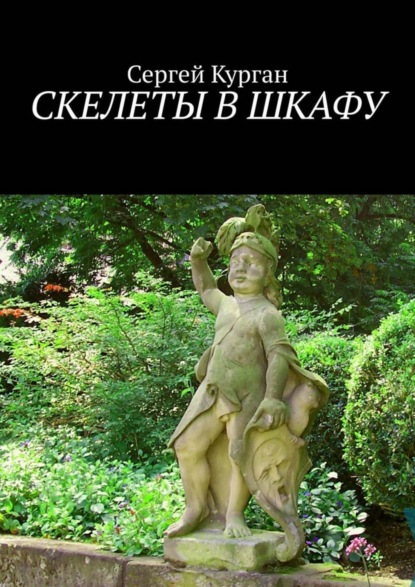
Полная версия:
Скелеты в шкафу
ДОПЛЮНУТЬ И ПЕРЕПЛЮНУТЬ!
Всю жизнь Гитлер, подобно до него кайзеру Вильгельму II, мечтал увидеть Париж. В отличие от Вильгельма, он его увидел, но поездка эта была весьма необычной. Она состоялась летом 1940 года, вскоре после разгрома Франции. Это не был официальный визит, напротив – Гитлер отправился в Париж инкогнито, захватив с собой лишь очень небольшую свиту. Первым делом он посетил парижскую Оперу. Это помпезное, перегруженное декоративными деталями, но вместе с тем роскошное здание, построенное архитектором Шарлем Гарнье во времена Второй империи, особенно привлекало его. Гитлер сам выступил в роли гида, хотя никогда прежде там не был. Во время осмотра он спросил у сопровождавшего их служителя, куда делся салон возле сцены. Выяснилось, что его замуровали. Оказалось, что Гитлер по чертежам тщательно изучил здание уже давно. Однако, несмотря на свое восхищение Оперой, он приказал снять бюст композитора Мендельсона, поскольку тот был евреем. При этом произошла «накладка». Рабочие, которые должны были снимать бюст, поинтересовались, который из них Мендельсон, поскольку никаких подписей не было. Им ответили: «Тот, что с самым длинным носом». В результате был снят бюст… Вагнера, любимого композитора фюрера.
Посетил Гитлер и Дом Инвалидов, где надолго застыл над саркофагом Наполеона. Уже покидая город, в аэропорту, Гитлер сказал Шпееру: «Увидеть Париж было мечтой моей жизни», а потом добавил: «Разве Париж не прекрасен? Берлин должен стать еще прекрасней. Раньше я часто задавался вопросом, не следует ли разрушить Париж, но когда мы доведем до конца строительство в Берлине, Париж станет не более чем тенью. Так ради чего разрушать его?» От таких рассуждений Шпеер поежился.
Реконструкция Берлина, Мюнхена и Нюрнберга и некоторых других немецких городов давно занимала Гитлера. «Берлин большой город. Большой, но не мировой. Вы только взгляните на Париж. Или даже на Вену! Это города с большим размахом. Нам надо переплюнуть Париж и Вену».
Пожалуй, именно в планах реконструкции Берлина, как ни в чем другом, наглядно проявилось все безумие, авантюризм и мания величия, свойственные нацистскому, и вообще тоталитарному режиму. Она приобрела форму гигантомании. «Переплюнуть» Париж предполагалось в основном размерами и объемами. Так, если Триумфальная арка в Париже имеет высоту 50 м, то арка, которую предполагалось воздвигнуть в центре Берлина, должна была иметь высоту в 120 м, длина же ее должна была составить 170 м. Центральный вокзал должен был иметь стальной каркас, обшитый медными листами и иметь четыре уровня. Задача аналогичная – переплюнуть нью-йоркский Гранд-Сентрал-Терминал. Привокзальная площадь должна была иметь в длину 1000 м и быть обрамлена трофейным оружием. Когда отец Шпеера, проектировавшего все это, посмотрел на макеты, он смог только ошалело пробормотать: «Безумие, да и только».
Но самым невообразимым сооружением должен был стать Купольный дворец. Он вмещал бы до 180 000 человек и в нем спокойно уместился бы собор святого Петра в Риме. Купол же вздымался бы на высоту 220 м, и даже круглое отверстие для света наверху превосходило бы по диаметру весь купол собора св. Петра. Наверху предполагался сорокаметровый стеклянный фонарь, а над ним восседал орел, парящий над земным шаром. Когда слухи об этих планах дошли до Управления противовоздушной обороны, там пришли в ужас. Купол должен был подниматься над уровнем низких облаков и служил бы отличным ориентиром для вражеской авиации, как будто нарочно указывая на расположенный к югу от него правительственный центр. Когда Гитлеру сообщили об этом, он отмахнулся. «Геринг заверил меня, – сказал он, – что ни один вражеский самолет не появится над Германией».
Однако тут возникла конкуренция с совершенно неожиданной стороны: Гитлер узнал, что в Москве собираются построить Дворец Советов высотой более 300 м и увенчать его статуей Ленина. Фюрер был страшно раздосадован, тем более что он никак не мог отменить замысел Сталина, издав какой-нибудь указ. Правда, в конце концов, он утешился тем, что его дворец будет все же уникальным: «Ну, чего стоит какой-то небоскреб – чуть больше, чуть меньше. Купол – вот что отличает наше здание от всех остальных!» Как оказалось, конкуренция Москвы угнетала его намного больше, чем он в том признавался окружающим. Когда началась война с Советским Союзом, он как-то заявил: «Вот теперь с их небоскребом будет покончено раз и навсегда!»
ПОДУШЕЧКИ СО СВАСТИКАМИ, ЭДЕЛЬВЕЙС И ГРОБНИЦА В БАШНЕ
Гитлер любил проводить время в Альпах, в своей резиденции в Берхтесгадене. Там у него имелся дом, меблированный в сентиментальном старонемецком духе: с громоздкими буфетами и тому подобной мебелью, что придавало этому жилищу уютно-мещанский вид. Позолоченная клетка с канарейкой, кактус и фикус еще более усиливали это впечатление. Повсюду были расставлены безделушки и разбросаны подушечки, на которых рядом с вышитыми поклонницами клятвами «Верность навек» пестрели свастики.
Через несколько часов после приезда основной массы гостей к дому подкатывал маленький закрытый «Мерседес» с обеими секретаршами фюрера – фрейлейн Вольф и фрейлейн Шредер. В их обществе появлялась и скромная на вид девушка из Мюнхена. Кто бы мог догадаться, что это возлюбленная самого повелителя – Ева Браун. Этот закрытый автомобиль никогда не ездил со всей колонной. То, что Ева Браун путешествовала в компании секретарш, должно было как бы замаскировать ее приезд. Вообще и Гитлер, и она всячески избегали всего того, что могло указать на интимную близость – для того, чтобы поздно вечером все же проследовать вместе в апартаменты наверху. Зачем требовалось держать эту совершенно ненужную дистанцию в узком кругу, от которого их отношения все равно не могли укрыться, трудно понять. Сама же Ева Браун вела себя подчеркнуто сдержанно, сознавая двусмысленность своего положения «при дворе».
Казалось бы, желание Гитлера обосноваться в Альпах свидетельствовало о его любви к природе, но в действительности ничего подобного за ним не замечалось. Как-то раз, в 1934 г. берлинская женская организация пожелала встретить Гитлера на вокзале и вручить ему цветы. Глава организации позвонила высокопоставленному партийному функционеру, чтобы узнать, какие цветы любит Гитлер. Тот расспросил всех, кого только мог, но не добился толку. Наконец, он позвонил Шпееру и пожаловался: «Я всех обзвонил, я спрашивал у адъютанта – и никакого успеха. Никаких он не любит. Как по-вашему? Давайте скажем, что эдельвейс. По-моему, эдельвейс лучше всего. Во-первых, это нечто редкое, да и растет он в Баварских горах. Давайте скажем – эдельвейс?» С тех пор эдельвейс официально стал «цветком фюрера».
Как известно, Гитлер был уроженцем Австрии – его юношеские годы прошли в городе Линце. Придя к власти, он решил превратить Линц в «международный центр». Предусматривалось сооружение ряда монументальных зданий вдоль Дуная, а также висячего моста. Венцом же всего ансамбля должен был стать величественный Дом окружного управления НСДАП с гигантским залом для заседаний и колокольней. В этой башне он предусматривал гробницу для себя. Резиденция Гитлера в старости тоже должна была расположиться неподалеку.
Еще до войны Гитлер от случая к случаю говаривал, что после достижения своих политических целей отойдет от дел и окончит свои дни в Линце. Не без жалости к себе он обыгрывал эту мысль: «Может, и забредет тогда ко мне на огонек кто-нибудь из прежних сотрудников. Только я на это не очень рассчитываю. И кроме фрейлейн Браун я никого туда с собой не возьму; фрейлейн Браун и свою собаку».
Это, пожалуй, единственное сбывшееся пророчество Гитлера.
Примечания :
– Альберт Шпеер – первоначально личный архитектор Гитлера, затем разрабатывал планы реконструкции Берлина и Нюрнберга (построил «Parteigelende”в Нюрнберге). С февраля 1942 г., после гибели доктора Тодта в авиакатастрофе – рейхсминистр вооружений. Сыграл исключительную роль в развертывании и военно-промышленного потенциала Германии. Под конец отошел от Гитлера. В Нюрнберге приговорен к 20 годам заключения. Оставил ценные мемуары.
– Вильгельм Фрик – один из старейших нацистов, был главой фракции НСДАП в Рейхстаге еще до захвата власти, с 1933 г. рейхсминистр внутренних дел. В 1943 Гитлер заменил его Гиммлером, но Фрика это не спасло – по приговору Нюрнбергского трибунала он был повешен.
– Вильгельм Фрик – один из старейших нацистов, был главой фракции НСДАП в Рейхстаге еще до захвата власти, с 1933 г. рейхсминистр внутренних дел. В 1943 Гитлер заменил его Гиммлером, но Фрика это не спасло – по приговору Нюрнбергского трибунала он был повешен.
– Брандт впоследствии подвергся опале.
– Герман Вильгельм Геринг – бывший ас Первой мировой войны, сыграл исключительную роль в приходе нацистов к власти и стал «человеком №2» в Рейхе, рейхсмаршалом, рейхсминисторм авиации и главкомом ВВС, уполномоченным по «четырехлетнему плану» (т.е. фюрером германской экономики). Впоследствии его влияние упало – он устранился от дел. В значительной мере это было связано с его наркоманией, от которой он избавился только на Нюрнбергском процессе, где был приговорен к повешению, но успел накануне казни отравиться.
– Илья Ильич Мечников – русский ученый, долгое время работавший в Париже. Лауреат Нобелевской премии.
«ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА»
Так называлось начало ХХ века в Европе. Сама Европа казалась единой и неделимой. Многие монаршие дома были связаны родственными узами, во главе их стояло немало ярких личностей. По-своему рыцарский «Старый мир».
Никогда, ни до этого, ни после, Европа не видела таких непередаваемо роскошных похорон, как похороны Короля Великобритании Эдуарда VII в мае 1910 г. Он до шестидесятилетнего возраста сидел в Принцах Уэльских и очень долго ждал британского престола. Его младший брат Леопольд умер, не дожив до сорока. Их мать, знаменитая королева Виктория, правила почти 64 года, и время её правления вошло в историю как Викторианская эпоха.
ВИКТОРИЯ
Получилось так, что Король Англии из Ганноверской династии Георг III (кстати, именно при нем отделились от Великобритании и провозгласили независимость Соединенные Штаты) имел трех сыновей. Казалось бы, судьбы династии обеспечены. Но это оказалось не так: сам Георг III под старость потерял здравый рассудок, и в 1811 г. его старший сын стал Принцем-Регентом, а после смерти старого короля в 1820 г. – королем Георгом IV. Он, однако, умер бездетным в 1830 г., а вслед за ним, в 1837 г., также бездетным, умер средний брат – король Вильгельм IV. Третий, самый младший брат – герцог Кент, к тому времени уже умер. У него был один ребенок, но это была дочь, ее звали Виктория. Она-то и стала королевой и, взойдя на престол в 1837 г. в возрасте 18 лет, оставалась ею до своей кончины в 1901 г.
Королевой она стала совершенно случайно, и это во многом определило ее дальнейшие действия. Осознавая свою ответственность за поддержание престолонаследия Британии, и вместе с тем видя, что династия идет к концу (двое ее дядей так и не имели детей), она возгорелась желанием не только сохранить Британии царствующий дом, но и влить в него «новую кровь». Во многом, поэтому она в 1840 г. вышла замуж за немецкого принца Альберта Саксен-Кобургского, который стал принцем-консортом (так в Англии называют супруга царствующей королевы). Это была настоящая любовь. Привязанность супругов друг к другу всегда очень была велика, но в 1861 г. смерть от тифа унесла его в возрасте 42 лет. После этого Виктория всегда подчеркнуто соблюдала траур до самой своей кончины, что, несомненно, сильно сказалось на всей британской жизни и культуре этого весьма продолжительного периода – «Викторианской эпохе», которая характеризовалась пуританизмом во всем, и в частности, в человеческих отношениях. Жертвой этих настроений пал Оскар Уайльд, а знаменитый Льюис Кэрролл в своей книге «Алиса в Стране Чудес» высмеял их по-британски почтительно, но вместе с тем беспощадно. Но Виктория была не только пуританкой – она также была немкой и поддерживала хорошие отношения с Германией против Франции. Ее же сын взял другую политическую ориентацию, которая изменила устоявшуюся веками расстановку сил в Европе. Однако его концепция появилась в результате внутрисемейного конфликта.
ПРОТИВОБОРСТВО
Эдуард. Годы идут, а он все еще Принц Уэльс кий. Он по-прежнему не король. Но он самостоятельная личность, и у него свои взгляды. Мать – властная, сильная личность, к тому же пользующаяся не просто уважением, а фактически культом в стране. Он хочет самоутвердиться. Это так естественно (и так напоминает отношения между Павлом Петровичем и его матерью Екатериной II). Чем он может выразить свой протест? Если мать стоит за все немецкое, то он будет стоять за все французское! Ведь каждому тогда было ясно (а Эдуард всегда отличался ясным пониманием вещей), что Франция и Германия – антиподы, они в непреодолимом разладе. Отсюда – в пику матери – частые поездки во Францию: в Париж, Ниццу, всевозможные амурные приключения там. Однажды, будучи во Франции с родителями, он заявил императору Наполеону III, – с детской непосредственностью: «У Вас прекрасная страна, и я хотел бы быть Вашим сыном». История умалчивает о том, как реагировали на это проявление своеволия Виктория и Альберт, но, несомненно, это имело далеко идущие последствия.
Виктория пыталась строить свою династическую (и, как ей казалось, не только династическую, но и государственную) политику заключая браки и устраивая судьбу своих многочисленных ближних и дальних родственниц по всей Европе, всерьез полагая при этом, что эти брачные союзы смогут противостоять тем разрушительным тенденциям, которые уже проявились в европейской политике. А между тем, уже сформировались нации и национальные государства, естественно стремившиеся к экспансии. Причем, новые нации (Германия) стремились занять достойное, по их понятиям, место под солнцем, а старые (Англия и Франция) – сохранить то, что у них уже было. Конфликт был неизбежен. Вопрос был только в том, кто с чем придет к этому моменту. Британия должна была быть готова к борьбе против нового, гораздо более опасного врага – Германии, ради чего необходимо было пойти на примирение со старым (еще со времен Столетней войны 1337—1453) врагом – Францией. Старая королева не была готова к такому повороту. Но зато необходимость его отчетливо понимал ее сын, и когда в 1901 г. Виктория скончалась, Эдуард VII круто повернул руль британской политики.
РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОВОРОТ
По сравнению с 64-летним Викторианским периодом, Эдвардианский век был краток – всего 9 лет, но в это время произошли существенные изменения. Это был период технических новшеств, активно внедрявшихся в жизнь, и общей либерализации общественной жизни в Англии. Известно, что монарх в Соединенном Королевстве лишь «царствует, но не правит», и возможности его вмешательства в политику весьма ограниченны. Но, как всюду и всегда, очень многое решает не столько сам пост, сколько личность человека, занимающего этот пост. Эдуард был, как тогда говорили, «бонвиваном» – любителем пожить, человеком в высшей степени светским, заядлым автомобилистом, и к тому же законодателем мод. При всех европейских дворах он пользовался особым расположением, что существенно облегчало ему выполнение дипломатических задач. Именно поэтому он сумел сыграть видную роль в британской и европейской дипломатии 10-х годов 20 века. Кроме того, король ясно осознавал новую расстановку сил в Европе. Германия, начинавшая строить большой военно-морской флот и претендующая на мировое лидерство, стала угрожать существованию Британской Империи. Перед лицом этой угрозы нужно было идти на сближение с Францией, а это значило – и с Россией. Король взялся за это решительно. Начать он решил с Франции.
Согласно существующим порядкам, британский монарх может совершить официальный государственный визит в какую-либо страну только один раз. Поэтому визит во Францию в 1903 г. обязательно должен был решить сразу очень много задач. Главной и основной из них было установить франко-британское сотрудничество. Но это было нелегко: отношения между двумя старыми соседками, разделенными узкой, но труднопреодолимой полосой Ла-Манша, были отнюдь не безоблачными. Главным узлом противоречий было их колониальное соперничество в Африке. Пиком его явился инцидент в Фашоде – в 1898 г. Франция и Британия схлестнулись в борьбе за долину Нила. А с 1899 по 1902 гг. Англии пришлось вести тяжелую войну с бурами в Южной Африке. Франция пыталась было воспользоваться этими британскими затруднениями, попытавшись пойти на сближение с Германией, но из этого ничего не вышло. И вот Эдуард VII прибывает в Париж. Что он видит и слышит?
Парижане или глухо молчат, или выкрикивают насмешливые возгласы: « Да здравствуют буры!», «Да здравствует Фашода!» Король едет по Парижу; его адъютант с изумлением и ужасом говорит: «Они нас не любят!..» Король, продолжая улыбаться и помахивать цилиндром: « А почему они должны нас любить?» На следующий день он посетил Оперу. Он говорил уйму комплиментов актрисам, не забывая, к тому же, французских исторических деятелей, и даже Жанну д» Арк, которую, как известно, именно англичане сожгли в Руане в 1431 г. Эдуарду удалось очаровать французов. Когда он уже уезжал из Парижа, парижане кричали: «Да здравствует наш король!» Не больше и не меньше… Сторонний наблюдатель, посланник Нидерландов в Париже, доносил своему правительству, что происходит нечто совершенно невообразимое: мнение французов (а в основном парижан) за считанные дни радикально переменилось.
ДРУЖНОЕ СЕМЕЙСТВО
Такие перемены в английской политике не нравились Германскому императору Вильгельму II, которому Король Англии Эдуард VII приходился… дядюшкой. Дело в том, что мать Вильгельма II приходилась родной сестрой Эдуарду VII. Однако система родственных связей европейских монарших домов отнюдь не исчерпывалась этим. Так, в частности, император Российский Николай II был двоюродным братом Принца Уэльского, а с 1910 Короля Англии Георга V – их матери были родными сестрами. Но и этим дело не ограничивалось: почти все тогдашние царствующие дома Европы были связаны родственными узами, подчас довольно тесными. Король Дании Христиан IX Глюксбург, монарх второразрядной европейской державы, сумел устроить своих детей просто фантастически; в это действительно трудно поверить. Одну свою дочь, Александру, он выдал за Принца Уэльского, будущего короля Англии Эдуарда VII, другую дочь, Дагмар, (в православии Мария Федоровна) он выдал за Российского императора Александра III, его старший сын, как и положено, стал королем Дании Фредериком VIII, другой сын – королем Греции Георгом I, а сверх того сын Фредерика VIII, то есть его внук, стал королем Норвегии Гаконом VII. Разумеется, все эти монаршие дома никак не могли проигнорировать похороны Эдуарда VII. Среди прибывших в Лондон коронованных персон были и весьма экзотические личности, особенно царь Болгарский Фердинанд, страдавший манией величия. Он явился в расшитом тюрбане, но более всего он раздражал своих венценосных коллег тем, что величал себя «кесарем» и возил с собой в специальном сундуке полный костюм Византийского императора, приобретенный по случаю у театрального костюмера.
часть 2
ЭДУАРД VII И ВИЛЬГЕЛЬМ II
Германский император и Прусский король Вильгельм II ненавидел своего дядю. Однажды на банкете в Берлине, где присутствовало 300 гостей, Вильгельм во всеуслышание заявил, имея в виду Эдуарда VII: «Это – сам Сатана. Трудно представить, какой он Сатана!» Эти слова вызвали скрытую дрожь у всех присутствующих. Впрочем, дипломаты уже и попривыкли: за 20 лет своего пребывания на престоле Вильгельм II своей несдержанностью на язык неоднократно доводил их до полуобморочного состояния.
Вильгельма II прозвали «путешествующим кайзером», настолько он любил всевозможные поездки, особенно морские путешествия. Но более всего ему нравились церемониальные въезды в иностранные столицы. Где только он не побывал: даже в Иерусалиме, где специально для него открыли Яффские ворота, так что он совершил въезд в город на белом коне. Однако более всего на свете кайзеру хотелось посетить Париж; это было пределом его мечтаний. Дважды он извещал Французское правительство о своем монаршем желании прибыть в столицу Франции, но оба раза ответом было глухое молчание. Судьбе было угодно распорядиться так, что кайзер, в 1918 г. свергнутый с престола, но доживший до 82 лет, так никогда и не увидел Парижа…
Российский император Александр III не жаловал Вильгельма II; он называл его «un garçon mal élevé» (дурно воспитанным мальчишкой). После убийства Александра II в 1881 г., а затем ухода в отставку Бисмарка в 1890 г. русско-германские отношения испортились. Новые руководители германской внешней политики взяли курс на разрыв с Россией. Ответом на это стал франко-русский союз, одним из вдохновителей которого стал Александр III. На позицию императора, помимо всего прочего, во многом влияла и его жена, императрица Мария Федоровна, урожденная датская принцесса Дагмар. Придворные круги в Копенгагене были настроены исключительно германофобски: на это были причины. В 1864 г. Пруссия отняла у Дании Шлезвиг. Простить это пруссакам датское общественное мнение, а особенно королевский двор, не могли. Родной сестрой Марии Федоровны, тоже дочерью датского короля Христиана IX, была и королева Англии Александра, супруга Эдуарда VII, и, разумеется, она тоже влияла соответствующим образом на своего, и без того антигермански настроенного мужа. Отсюда же и отвращение, которое Александра питала к Вильгельму II, хотя во время датско-прусской войны 1864 г. тому было всего лишь 5 лет. На этом фоне и следует рассматривать пребывание Вильгельма II в Лондоне в 1910 г. в связи с похоронами его дядюшки Эдуарда VII.
Английская пресса отмечала, что кайзеру «принадлежит первое место среди прибывших из-за границы плакальщиков». Поведение его во время траурных мероприятий в Лондоне единодушно расценивалось как образцовое. В частности, Артур Конан Дойль, выступая в данном случае в качестве репортера, написал: «Вильгельм выглядел столь благородно, что Англия не будет той старой доброй Англией, если сегодня снова не раскроет ему свои объятия». Но эту благостную картину резко нарушил один, в сущности незначительный, но характерный эпизод. Когда траурная процессия достигла Вестминстерского аббатства, где должно было состояться захоронение, Вильгельм первым спешился и бросился к карете вдовы покойного – королевы Александры, которая ехала вместе с сестрой – Российской императрицей Марией Федоровной. Ловко обежав карету, Вильгельм поспел к ней даже раньше королевских слуг, но Александра специально вышла с другой стороны. Это не смутило кайзера; перебежав на другую сторону, он вновь оказался первым и даже попытался поцеловать руку королеве «с видом убитого горем племянника». Ситуацию, уже натянутую до предела, спасло только то, что сын Александры и покойного Эдуарда VII, новый король Георг V поспешил на выручку матери и подал ей руку.
«ДОРОГОЙ НИКИ» И ЕГО ДРУГ ВИЛЛИ
Кстати, Георга V Вильгельм называл «хорошим мальчиком». Он покровительственно относился и к Николаю II. После того, как в 1894 г. Александр III, на дух не переносивший Вильгельма, скончался, кайзер, пытаясь подправить уже сильно подпорченные отношения с Россией, взял себе за привычку строчить длинные, с претензией на «интимность» послания новому императору Николаю II. В этих пространных, многостраничных письмах на английском языке он обращался к Николаю «Дорогой Ники» и подписывался «твой друг Вилли». Он пытался отвратить Николая от франко-русского союза, исправить фатальную дипломатическую ошибку, допущенную им же самим. Он писал: «Безбожная республика, запятнанная кровью королей, не может быть подходящей компанией для тебя». Он даже позволял себе поучать Николая, держась порою на грани издевки: «Я советую тебе, Ники: побольше парадов и речей… Парадов и речей». Сам же кайзер в частной беседе со своим рейхсканцлером Бюловом как-то сказал, что Николай «годится только на то, чтобы жить в деревне и выращивать турнепс». В 1905 г., во время революционных событий в России, он даже предлагал Николаю направить германские войска для подавления его мятежных подданных, чем вызвал яростное возмущение у императрицы Александры Федоровны, чье отношение к Вильгельму II и без того ухудшалось с каждым его визитом в Петербург. Александра Федоровна, имевшая колоссальное влияние на мужа, была, правда, немкой, но не пруссачкой – она была сестрой Великого Герцога Гессен-Дармштадтского. Ее резко негативное отношение к Вильгельму II, вкупе с той неприязнью, которую испытывали к нему мать Николая – вдовствующая императрица Мария Федоровна и ее сестра королева Англии Александра, а также отрицательный взгляд на него покойных Эдуарда VII и Александра III не могли не повлиять соответствующим образом на Николая II. Это во многом объясняет то, почему « безбожная республика», т. е. Франция казалась для него, как и для его отца, более приемлемым партнером, чем Германская Империя. Все эти обстоятельства существенно помогли французской дипломатии создать дипломатическую и духовную изоляцию Германии.



