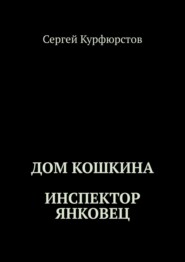скачать книгу бесплатно
Половина второго. За окном послышался негромкий шорох мягко подкатившего автомобиля, и через несколько минут в дверь постучали. Коротко, отрывисто, в два раза. Тук-тук, пауза, тук-тук-тук. Мать. Удар ногой. Предупреждает: не одна.
Маша, схватив перину и вязание, мигом скрылась в своей потайной комнатке; Генка задвинул шкаф; я поспешил к двери.
– Уф! Ноги промочила, – спасаясь от холодных капель дождя, мать, стряхнув зонтик, быстро заскочила в дом.
Вслед за ней напролом ввалился Женька и, насмешливо оглядев накинутое на мои плечи одеяло, безапелляционно заявил:
– Хватит мёрзнуть, братцы. Поехали похороны смотреть!
– А ты зачем ногой в дверь стукнула? – спросил я мать.
– В машине немец сидит. Водитель. Мало ли… вдруг в дом запросится? Не дай Бог, Машу увидит, – пояснила она, вынимая из шифоньера черный траурный платок, – работникам управы велели в Преображенский собор явиться. Там Сциборского и Сеныка хоронят. Герр Пройсс предоставил авто?. Так что, если хотите, – поехали тоже. Только второй зонтик возьмите.
– Поехали, поехали, – бодро поддакнул Женька, – на улице теплей, чем в доме. И транспорт уже под окнами стоит.
– Нам бы Казика дождаться, – неуверенно ответил я, – он обещал прийти к десяти. А сейчас почти два.
– Думаю, он со Степаном. Твой дядя где-то краску вчера достал. Зеленую. Забор хотел покрасить. А тут дождь. Может, у Доминики заночевал, – предположила мать, – наверное, они уже возле церкви. Степан похороны не пропустит.
Пока мы с Генкой собирались, Женька, постучав пальцами по шкафу, позвал Машу и через стенку с ней немного поболтал; мать надела новый, купленный еще до войны и почти неношеный плащ из серого габардина; и наконец, по одному выскочив на улицу и забравшись в машину, мы покатили в церковь, молча прислушиваясь к звукам барабанившего по откидной брезентовой крыше неугомонного дождя.
Смешиваясь с шумом капели, со стороны Преображенского собора послышался мягкий колокольный перезвон. Богослужение, разрешенное немецкими властями и ознаменованное крестным ходом, возобновилось всего несколько дней назад, и церковные колокола после двадцатилетнего молчания запели вновь, создавая новую, ранее мне незнакомую мелодию, умиротворяющую своей спокойственной монотонностью. Такую я не слышал никогда.
Несмотря на непрекращающийся дождь, все пространство вокруг церкви было заполнено собравшимися на похоронную процессию траурно одетыми людьми. Тела уже были опущены в выкопанную возле входа в собор могилу, и длинная вереница выстроившихся в скорбную очередь мужчин и женщин, прощаясь с усопшими, ползла вдоль нее, наполняя горсть за горстью мокрой землей.
Мать взяла меня под руку и, укрывшись зонтом, мы пристроились в конец медленно продвигающейся колонны мрачно настроенных горожан. Женька и Гена под вторым зонтом шли вслед за нами. На ступеньках церкви, тщетно пытаясь перекричать колокольный звон, выступала до нитки промокшая женщина. Простирая руки к небу, она кричала: «Дорогие братья и сестры! Сегодня… с тяжелым сердцем и оцепеневшей душой… мы навсегда прощаемся с двумя лучшими сынами украинского народа, павшими от руки подлого диверсанта, чьи преступные выстрелы разорвали сердце родной Украине! Мы точно знаем, кто? стоит за душегубом! Над свежей могилой… в твердой решимости… все мы, как один, присягаем добыть то, за что боролись славные паны Сенык и Сциборский! Вечная им память!».
Я искал глазами Степана, но нигде не находил. Не мог же он похороны пропустить! Вся городская управа тут, а его нет. Хотя столько народу натолкалось, что можно и не заметить. А Казик? Почему он не пришел? Или, может, что-то случилось?
Бросив горсть земли в могилу, мы обогнули собор и, перейдя трамвайные пути, вышли на Театральную улицу.
– Грыць! – крикнула мать проходившему мимо знакомому полицаю, – ты Степана, брата моего, не видел?
– Нет. Сам удивляюсь. Все из нашего участка здесь, а его нет. Хотя, как начальник, должен был явиться.
– Странно… и где его черти носят? – обеспокоенно пробурчала мать. – Ладно, дождемся вечера. Может, объявится. А мне в управу возвращаться надо. И вы долго не шлёндрайтесь.
– Хорошо, мама, – кивнул я в ответ.
Немного проводив мать, мы вернулись и, прячась от дождя под одним зонтом на троих, заскочили во двор дома, где я в последний раз видел эсэсовского офицера.
– Вон его окна, – показал я Генке.
– Чьи? – недоумевая, спросил Женя.
– Пойдем за сапожной будкой на лавочку сядем, и я тебе все расскажу.
Внимательно выслушав, Женька напряженно замолчал, и на его лице отобразилось чувство неподдельного и нескрываемого страха. Или наш артист его мастерски изобразил.
– Он эсэсовец, и, скорее всего, служит в гестапо, – немного подумав, испуганным полушепотом наконец заговорил Женька, – а гестаповцы относятся с подозрением к каждому дважды встреченному ими человеку. Для них случайных встреч не бывает. Он видел тебя на месте убийства, потом на Михайловской, и вполне возможно возле своего дома тоже. Ты понимаешь, Коля, что будет, если ты еще хотя бы раз попадешься ему на глаза?
– Почему ты решил, что он из гестапо? – недоверчиво спросил я.
– Ты сказал, он вечером переоделся в штатское. А в штатском позволено ходить только сотрудникам гестапо! И то, – исключительно по служебной необходимости и с разрешения вышестоящего начальства! Ты понимаешь, куда лезешь? За простого немца сто человек расстреливают. А за него тут все пожгут! Все, кто живет в соседних домах, считай уже на том свете.
– Так в этих домах только немцы живут. Наших людей из них давно выселили, – зло усмехнулся я.
– Они найдут, кого повесить, – вставил Генка, – за них не волнуйся.
– Да… слишком дорогая получается месть…
– Вот и я о том же! – Женька вздохнул с облегчением, видимо полагая, что сумел меня убедить. – Ты знаешь, Коля, я не трус. Ради того, чтобы вытащить Машу из гетто, я пошел на убийство. Но этим мы спасли конкретного дорогого нам человека. А кого мы спасем, если убьем гестаповца? Никого! На его место придут другие. Такие же, как он!
– Ладно, – соглашаясь, вздохнул я, – если уж убивать – то ради спасения, а не из-за мести. Оставим это на потом. А сейчас – валим отсюда. В другой двор. Не будем немцам глаза мозолить.
– Котёнок! Котёнок! – раздался за спиной детский голос, – куда пропал, непослушный?
Из-за сапожной будки выбежала маленькая девочка лет пяти-шести, в завязанном «по-старушечьи» крест-накрест на груди байковом платке и нарочито строго позвала своего питомца. За валявшимся неподалеку разбитым деревянным ящиком, испуганно подглядывая сквозь поломанные доски, притаился маленький несчастный котёнок. Его мокрая слипшаяся шёрстка и дрожащее от холода тельце придавали ему совершенно беспомощный и жалкий вид. Мордочка и живот были грязно-белыми, уши и спина совершенно черными, а темное пятнышко над верхней губой добавляло некоторой комичности этому маленькому, напуганному первым в его жизни дождем существу.
– Ах, вот ты где, негодник! – девочка подняла бедного страдальца на руки и, повернувшись к нам, вежливо спросила, – можно я с вами под козырьком посижу, пока мама не вернется?
– А где твоя мама? – спросил я, усаживая ее на скамейку.
– К немецкому дяденьке пошла. За конфетками. А мне велела на лавочке под козырьком сидеть. Я всегда здесь сижу.
– За конфетками?
– И шоколадками тоже, – подтвердила она.
– Как же тебя мать одну оставляет? – недовольно пробурчал Генка.
– Я не одна. Дядя Петя за мной смотрит. Сапожник. Только его почему-то сегодня нет… и будка заперта…
– А этот дяденька, к которому твоя мама пошла, – он военный? – переглянувшись с друзьями, осторожно спросил я.
– Нет. Доктор. В гошпитале работает, – крепко прижимая продрогшего котенка к себе, с готовностью ответила девочка, – он там всяких раненых лечит, а мама ему помогает.
– Твоя мама знает немецкий? – заинтересовался Женька. – Как они между собой разговаривают?
– Моя мама все знает. Она умная и красивая, – гордо, с детской непоколебимой уверенностью заявила малышка, – а доктор по-русски говорит.
Значит, не к гестаповцу пошла. Хотя, и так понятно. Им с местными женщинами путаться строго-настрого запрещено. «Ферботен», – на их, собачьем. Поэтому и бордель с арийскими девицами учредили. Женька говорил, немцам даже специальные талончики выдают. На посещение. Скидка в три рейхсмарки.
– А как котенка зовут? – полюбопытствовал Женька.
– Котёнок, – хитро улыбаясь, ответила девочка.
– Что? И даже имени у него нет?
– Есть, – проболталась она, – но сказать не могу. Мама не разрешает.
– А если так? – Женька вытащил из кармана жестяную коробочку с леденцами, открыл ее и протянул малышке.
– Нет! – помотала головой она.
– Скажешь, как его зовут – всю коробку отдам!
Искоса взглянув на полную леденцов бонбоньерку, девочка, сдвинув брови, насупилась, крепче прижала котенка к себе и в замешательстве несколько раз передернула плечиками, будто бы убеждая саму себя ни за что не выдавать настоящее имя своего маленького друга. Разноцветные сладости, посыпанные белыми крупинками сахара, соблазнительно выглядывали из коробки, явно разжигая в малышке невыносимое желание поскорее ими овладеть. Взглянув на хитро улыбающегося Женьку, она беспокойно заерзала на скамейке и, наконец, не выдержав, сдалась:
– Только никому не говорите. Это секрет!
– Честное-пречестное слово, – прижав руку к сердцу, торжественно пообещал хитрец Женька.
– Ладно, – согласилась малышка, – я котенка возле маминого гошпиталя нашла. У него мордочка белая, шерстка на голове черная, а под носом пятнышко. Как усы у немецкого дяденьки на портрете. Мама сказала, того дядьку Гитлер зовут, и он у немцев самый главный «фуйер». Или как-то так. В общем, решила я котенка Гитлером назвать, чтоб он, когда подрастет, среди котиков и кошечек тоже самым главным был. Вот. А мама меня заругала. Сказала, за такое могут заарештовать и в «гештапу» отвести. Но вы ведь не оттуда, правда?
– Нет, конечно! – нахмурившись, ответил Женька, протягивая коробку леденцов, – но ты все равно никому об этом не рассказывай. Хорошо? А то гестаповцы – они злые.
– Я знаю, – вздохнула девочка, – в этом доме живет один. На последнем этаже. Он моего котика сапогом побил. У него потом три дня лапка болела…
– Дверь налево или направо? – перебил я.
– Я еще не разбираюсь где лево, а где право. По лестнице последняя дверь. А перед ним злая тетка живет. Ни с кем не здоровается и не говорит. А еще в белом халате, как доктор, ходит. Разве бывают злые доктора? – недоуменно пожала плечами малышка, с наслаждением отправляя в род сладкую конфету.
– Нина, ты где? – послышался молодой женский голос.
– Мамочка, я здесь!
Из-за сапожной будки выглянула красивая, со вкусом одетая и в меру накрашенная женщина лет тридцати. Она была совсем не похожа на тех вульгарно напомаженных девиц, которые парочками проплывали мимо моего дома в сторону Богунии, где терлись возле расположенных там казарм в надежде подцепить какого-нибудь словацкого или, на худой конец, немецкого солдата.
Словаки, забритые в вермахт почти насильно, воевать особо не стремились и после того, как под Киевом два пехотных батальона отказались воевать против Красной Армии и со знамёнами сдались, остальных отогнали в тыл и расквартировали в казармах бывшего артиллерийского училища. Как сказал Степан: – для выполнения вспомогательных функций. Или же, говоря простыми словами, из словацких солдат наспех формировали строительные бригады и похоронные команды. Большего немцы им не доверяли.
Ко всему прочему словаки говорили на понятном языке и в отличие от немцев людей не обижали, – за что и снискали доброе расположение в глазах местных гулящих девиц. Но эта женщина, глядевшая на нас строгим недоверчивым взглядом, была решительно не похожа ни на одну из них.
– Добрый день, мальчики, – поздоровалась она.
– Здравствуйте. Мы тут за вашей дочкой присмотрели.
– Благодарю вас, – бросив беглый, слегка обеспокоенный взгляд на закрытую будку сапожника, сухо ответила незнакомка.
– Сапожника сегодня не было, – угадав ее мысли, сказал я, – но вы не волнуйтесь, с вашей девочкой все в порядке.
– Да-да, – подхватила маленькая Нина, – они меня конфетками угостили. Смотри! Леденцы! А шоколадку от доктора ты мне принесла?
– Конечно, милая, – рассеяно пробормотала молодая женщина и, обернувшись, с тревогой посмотрела в сторону дальнего подъезда, у которого стоял черный легковой автомобиль.
Двери подъезда неожиданно с грохотом распахнулись, – будто по ним ударили ногой, – и через какое-то мгновение на ступеньках появился немецкий офицер в расстёгнутом кителе и с красным от натуги лицом. В одной руке он нес швейную машину в деревянном футляре, в другой нечто похожее на антенну рации, – так, во всяком случае, казалось издалека. Забросив всё это в авто?, немец вытер руки носовым платком, – уделив при этом особое внимание костяшкам пальцев, – затем застегнул китель на все пуговицы и, видимо дожидаясь кого-то еще, с удовольствием закурил. Ожидание его не утомило. Двери вскоре распахнулись вновь, и двое солдат вытолкали из подъезда сильно избитого человека со связанными за спиной руками.
– Это же сапожник дядя Петя! – прижав ладошки к щекам, вскрикнула девочка Нина.
– Пойдем, дорогая, – заторопилась мать Нины, – нам пора. Прощайте, мальчики.
Взяв дочь на руки, и прижимая ее к себе, быстрой походкой она поспешила покинуть двор. Незнакомка обернулась всего лишь раз, но и этого хватило, чтобы я смог заметить тревогу на ее лице. Кто она? И почему переживает за сапожника? Некому будет присмотреть за дочкой на время визитов к немецкому доктору? Но зачем девочку оставлять на улице? Почему не взять с собой? Волосы не растрепаны… помада не размазана… да и была она там минут десять. Не похоже, чтобы они занимались там тем, о чем я подумал сначала. Ладно. Наверняка этому есть какое-то простое объяснение. А нам пора уходить. Дождь кончился и хорошо бы узнать, куда Степан с Казиком подевались. Это сейчас важнее.
Глава третья
– Степан Феодосиевич, смилуйтесь! Богом клянусь, – не хотел! Заставили меня! – из глубины полицейского участка натужным хрипом донесся умоляющий о пощаде голос.
Через секунду, прикрывая голову руками, на плац выскочил молодой, довольно высокого роста полицай и, спотыкаясь на бегу, нырнул под деревянный, вкопанный в землю всеми четырьмя ножками уличный стол. За ним в расхристанной рубахе нёсся разъяренный до бешенства Степан и, размахивая нагайкой, осыпал проклятьями насмерть перепуганного сослуживца. Неподалеку, поддерживая мать под руку, стоял Казик и злорадно ухмылялся.
– А ну вылезай, христопродавец! – кричал Степан, тарабаня нагайкой по столу. – Душу вытрясу! Думал, всё? Продал меня в гестапо – не вернусь больше? Паскуда! Зачем немцев к невинным людям привел? Они-то здесь причем?
– Так вас дома не было! – оправдывался загнанный под стол сослуживец. – Вот гестаповцы и приказали везти их к вашей полячке. Знали они про нее. Но не я им сказал. Клянусь! Как я мог отказать? Простите, Степан Феодосиевич!
– Ладно… вылезай. Два «горячих» всыплю, и можешь шевроны с моего пиджака на свой перешивать, – неожиданно смилостивился Степан, – ты теперь в участке главный.
– Это как же? – осторожно выковыриваясь из-под стола, недоверчиво промямлил молодой полицай, – а вы?
– А что я? Я теперь в полиции не служу. Видишь, пистолет отобрали? Если б не отобрали, пристрелил бы тебя! – благодушно пригрозил вдруг неожиданно подобревший Степан и тут же не замедлил прихвастнуть. – Я теперь в управе гражданским гауптинспектором служить буду. Целую секцию мне доверили. Народонаселения и паспортной регистрации. Понял?
– Ух, ты! – с нескрываемым почтением заглянув Степану в глаза, удивленно воскликнул новоиспечённый оберассистент, – значит, в полицейском участке я? теперь старостой буду?
– Ну да! Весь руднянский «полицай-ревир»[2 - Polizeirevier (нем.) – Полицейский участок.] теперь твой! Командуй! Словечко за тебя, где надо, я уже замолвил. Только ты не расслабляйся. Полицией распоряжаться я тоже полномочия имею. И вы мне всячески содействовать – должны!
– Не извольте беспокоиться, – польщенный нежданно-негаданным повышением новый полицейский староста послушно кивнул головой, – для вас – все, что угодно.
– То-то же, – пробурчал Степан и, повернувшись к нам, удивленно добавил, – а вы что здесь делаете?
– Так тебя искали, – ответил я, – странно было, что ты на похороны не явился. Вот и решили узнать, куда ты пропал.
– Эх… и не спрашивай… в гестапо сутки просидели!
– Стёпа, – тихо перебила его пани Ковальская, – потом расскажешь. Ног не чувствую. Может, домой?
– У матери жар, – пояснил Казик, – мы в гестаповском подвале по колено в воде всю ночь простояли. Дождем натекло. И холод там собачий. Хорошо, какой-то окруженец маме шинельку на плечи накинул. А то бы совсем околели, – Казик крепче сжал руку матери и, заметно тревожась, перевел взгляд на Степана. – Поедем уже, или как?
– Скорее, Стёпушка. Голова кружится, – слабеющим голосом тихо простонала пани Ковальская.
– Конечно-конечно! Я сейчас, Доминика. Айн момент! – Степан засуетился и, повернувшись лицом к молодому полицаю, резко и нетерпеливо выкрикнул. – Юрко! Где мотоциклы?
– Так нет их, – виновато развел руками Юрко, – немцы весь наш транспорт еще вчера реквизировали. Для шуцманов из батальонной полиции. А те евреев оформлять поехали.
– Что значит «оформлять», – удивился Степан, – куда?
– Известно куда. В Богунский лес. В ямку. Немцы и приказ соответствующий вынесли. За убийство Сциборского и Сеныка незамедлительно казнить четыреста еврейских бандитов. Так и написали: «Бандитов».
– Тю… а евреи тут причем?
– Ну… у немцев евреи всегда причем. Сами знаете, – покачал головой Юрко.