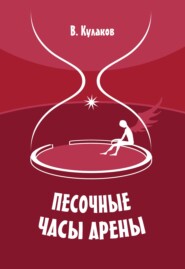скачать книгу бесплатно
– …Дядь Вень! Почему я не Вениаминович?
– Потому что у тебя есть… извини, был настоящий твой отец. Ты – Пал Палыч. Павел Павлович. Не обсуждается!.. – Грошев сделал серьезное лицо. Пашка понял – попал в какую-то болевую точку, обстоятельства давно минувших дней, которых он не знал и куда ему вход был запрещен, как в кинотеатр на фильм, где «детям до шестнадцати…»
– Но я же никогда его не видел! Ты мне все равно отец! Ты меня вырастил!
– Гм… – Грошев потупил взор. Теплая волна благодарности и нежности прошлась по его душе. – Ты мне больше, чем сын! – хрипловато произнес он. – Ты сын моего друга. Единственного и настоящего. И женщины, которую я люблю. Значит, ответственности в несколько раз больше за вас.
– Все хотел спросить, дядь Вень, почему мама меня зовет «Пух»?
– Как тебе объяснить… Это, думаю, от имени. Пашка, Паша, Пушок. Что-то есть в этом мягкое, пушистое. Ласковое. Так Светлана когда-то звала твоего отца. Теперь так зовет тебя…
– А как мой отец звал маму?
Грошев задумался. Одна его бровь сложилась грустным домиком.
– Он звал ее… «Точка».
– Почему «Точка»? – Удивлению Пашки не было предела.
– Потому, что – Светочек, Светочка. Тоже от имени. Как-то само собой сократилось, он её стал звать «Точкой». Может, еще что-то там, не знаю, не лез.
– Ну, а ты?
– Я? – Грошев помедлил с ответом. – Ты же слышишь, зову ее просто Светланой, Светой. Она для меня всю жизнь… многоточие. С загадочным вопросительным знаком в конце.
– Хм, Пух! Значит, я, получается, – Венин Пух?
– Тогда уж – Вени Пух. – Оба озорно рассмеялись.
У Пашки воспоминания детства были совсем ранними. Ему припоминалось, как года в три за кулисами его катают на лошади мама и дядя Веня. Гром аплодисментов из зрительного зала его долгое время пугал, пока он не осознал, что этот шум почему-то волнует и радует дядей с тетями в ярких костюмах. Мама с дядей Веней счастливо улыбаются, произносят постоянно какое-то странное слово «успех». В памяти Пашки отложился грозный рык львов в помещении напротив их конюшни – страшно! Но мама с дядей Веней даже не обращают внимания – значит, не страшно… Веселые дяди с блестящими трубами под низким потолком, сидящие уступом вниз с какими-то подставками, освещенные яркими лампами. Разлинованные белые листы, которые они то и дело переворачивают. Оглушающие звуки, от которых закладывает уши, если стоять в приоткрытой двери оркестровки. Серьезный пузатый дядька с каким-то странным рычащим именем «дирижер». И бесконечные поезда, поезда, гостиницы, беззаботная пацанва, резвящаяся в манеже. Постоянный плач с ором, когда родители ставят своих чад в стойки на руках, заставляют тянуть нетянущиеся носки. Ежедневные ненавистные шпагаты, которые, ну никак, не хотят, чтобы распластанные ноги коснулись ковра манежа. И эти ноги родители все время задирают куда-то вверх, растягивают в стороны, а ноги сопротивляются. В паху неприятно горит, голосовые связки невольно начинают вибрировать, глаза рождают слезы, даже не спрашивая твоего разрешения. Цирковое детство…
Пашка жил счастливо. Правда, не понимал, почему у всех были папы, а у него – дядя Веня, которого он пытался звать папой. Но ему объясняли, что папа у него другой. Где этот дядя-папа, почему не приходит, стало ясно не сразу. Потом. Когда он стал что-то понимать, ему спокойно и толково объяснили, что папа погиб. Дядя Веня – его отчим. Это тоже что-то типа папы, но не совсем. Дядя Веня Пашку любил, холил, лелеял, баловал, относился как к родному сыну, может, даже лучше. Поэтому маленький Пашка не видел разницы между «папа» и «дядя Веня», для него это было одним и тем же.
Когда ушли в небытие старший Пашка с Захарычем, Венька Грошев со Светой несколько лет крутились на пупе, как могли. Бесконечно репетировали, выступали, переезжали из города в город в товарняках и коневозках, кормили, чистили лошадей, лечили, часто ночевали на конюшне. Жили обычной цирковой жизнью людей, работающих с животными. Трудились много, спали мало. Учили новых служащих по уходу за животными. Работники часто менялись. То и дело попадались случайные люди, порой нерадивые, не любящие животных и цирк. Так и продолжали жить, все беря на себя, пока не случилось чудо. Их заметил Леонид Костюк. Он возглавлял цирк на проспекте Вернадского в Москве. Был там и директором, и художественным руководителем. Сам из потомственных артистов, блистательный мастер манежа, народный артист, золотой призер конкурса в Монте-Карло. Человек, который влет разбирался, где золото истинное, а где сусальное. Наметанным глазом увидел перспективы их конного номера – поменять костюмы, музыку, немного композицию, и в добрый час! Взглянул на Пашку. Тот самозабвенно репетировал. Костюк подошел, поговорил, попросил показать трюки, которыми тот уже владел. Сам взял в руки кольца и… Пашка открыл рот: «Вы же эквилибрист, перши на лбу балансировали – родители рассказывали. А вы, оказывается, еще и жонглер – «утрите носы, мастера!..»
Не прошло и двух месяцев, как они всей семьей оказались в штате Московского цирка. Пашка на репетиционном периоде, а счастливые родители – на манеже, о котором все эти годы мечтали. Москва! Дожили…
Глава пятая
– Паша! Открой кисть! И ровнее бросок! Кольцо полетит прямо, а не к животу. Главное – считай, считай! Задавай ритм своим рукам. Не должно быть перебоев. Это же не «тыкдымский» конь скачет, а твои руки работают! Да и у лошадей в беге тоже ритм существует, иначе им хана. Жонглирование – это прежде всего искусство ритма! – Старый мастер жонглирования Владимир Комиссаров методично готовил юного Пашку к выходу на профессиональную арену. Оставалось совсем чуть-чуть. Период официального ученичества давно закончился, но, видя перспективы молодого жонглера, он упорно продолжал наставничество. К тому же Комиссаров, как режиссер, придумал оригинальный номер с кольцами, целую серию никем ранее не исполняемых трюков, которыми можно было удивить жонглерский мир где-нибудь, скажем, на конкурсе в Париже или на молодежном в Монте-Карло. Там оценят!..
– Владимир Георгиевич! В прошлый раз вы говорили, что жонглирование – это прежде всего красота рисунка. – Взмыленный от многочасовой репетиции Пашка устало провел влажной ладонью по лбу. – Ничего у меня не получается!..
Пашка в унынии решил было присесть на барьер.
– Не садись во время репетиции ни на минуту! Тут же остынешь, начинай потом все сначала. Не получается у него… В эти годы твой отец только первый раз в жизни булавы с кольцами увидел, а ты уже вон на каком уровне! Тут главное – пахота и время. Время и пахота! Нет других путей. Само не придет. Не получается у него… Получится! Запомни раз и навсегда! В жонглировании – как в музыке, важно все: и ритм, и красота мелодии, и темп, и мелизмы, и еще миллион всяких важностей. Тебе всего-то ничего. Скоро сам все поймешь. Вот начнешь кого-нибудь обучать, тогда все мои слова тебе вспомнятся. Ладно, с мячиками и булавами на сегодня все. Бери основное – кольца…
Владимир Комиссаров когда-то был учителем у Павла-старшего. Прошло много лет, и вот настал черед Павла-второго, как шутили в цирке. Снова жонглирование, опять упор на кольца, бесконечные репетиции. Комиссаров сам вызвался помогать, увидев пацана, который кувыркался в манеже. Он ахнул – полная копия того Павла, которого он повстречал когда-то в шорной Захарыча. Тот, еще юнец, тогда работал служащим по уходу за животными в конном номере «Казбек». И вот – всё по новому кругу: снова лошади, опять жонглирование, и русоволосый пацан с серыми, какими-то недетскими глубокими глазами. Дежавю…
Страна, некогда великая держава, распалась, как карточный домик. На просторы необъятной России заявился капитализм, никого не спросив. Теперь каждое предприятие выживало, как могло. Цирк тоже пытался прокормить себя, сопротивлялся. Леонид Костюк снова, как в былые времена, показывал чудеса эквилибристики, но теперь уже в директорском кресле, балансируя со своим цирком на краю экономической пропасти. Он залезал в долги, брал кредиты в банках, продолжал ставить цирковые спектакли один лучше другого. Зрители в ответ голосовали ногами, покупая билеты, приходили в цирк, ища там последнюю в жизни радость. Костюк тут же долги отдавал, снова рисковал – опять брал кредиты, и так до бесконечности, лишь бы цирк жил, работал, творил, и его артисты не ходили голодными.
Конезаводы дружно кричали: «Помогите!» Но до лошадей ли теперь – выжить бы!.. Элитные лошади стоили непомерно дорого, шли, в основном, за рубеж, за валюту. Из оставшегося выбирать было практически нечего. Иванова с Грошевым приуныли. Их лошади постарели. Уходили одна за другой. Что-то просить у своего директора, на котором и так лица не было, совестно. Коня, подобного Сармату – их многолетнего любимца, больше не встретилось. Да и обучить остальных, даже способных лошадей, довести их до высочайшего уровня мог только такой берейтор, как Захарыч. Но эпоха старых мастеров ушла, а новые не народились. Многие секреты исчезли вместе со старцами цирка. Эмблема на костюмах и сбруе, где в ромбе буква «С» словно молнией сверху пронизана буквой «И» (Светлана Иванова), потускнела. Гордая «спартаковская» придумка Захарыча все меньше вызывала у зрителей восхищенных эмоций. Номер как-то незаметно стал рядовым. Для московского цирка и для них это было неприемлемо. Пришло понимание завершения карьеры. Какое-то время еще тянули из-за Пашки. Леонид Костюк, видя проблему, помогал, чем мог, не шел на «прямой» разговор. Щадил. Но так долго продолжаться не могло…
Пашка подрос, у него хорошо складывалось с жонглированием. Владимир Комиссаров по-прежнему приходил ежедневно в цирк. Они репетировали. Комиссаров его вел, пока однажды не сказал: «Все, Паша! Больше ни как специалист, ни как режиссер дать тебе ничего не могу. Ты обрел крылья – лети!..» Пришло время Пашке лететь, с легкой руки Комиссарова и всё того же Леонида Костюка, на международный конкурс, где Павел Жарких-2 взял «золото», а родителям устало шагать на седую, словно тусклое серебро, пенсию…
Профессионально работать Пашка начал рано. Дебютировал он сразу на манеже Московского цирка на проспекте Вернадского. Родители к этому шли всю свою творческую жизнь, а жонглер Павел Жарких с этого начал.
– Мама! Дядя Веня! Не слишком ли для меня это легкая дорога? Прямо асфальтированный проспект!
– Вся наша жизнь, сынок, была положена для этой твоей гладкой дороги. Упасть можно и на ровном месте, двигаться стремительно и по кочкам! – Дядя Веня, как всегда, изрек короткую философскую мысль, которая отражала сермяжную цирковую правду, – Все зависит от того, кто идет по ней, и как…
Леонид Костюк после успешного дебюта молодого жонглера назначил тому приличную ставку. В дальнейшем пристально следил за его творческим ростом, организовывал от своего цирка гастроли в других городах. Стал для него в жизни чем-то вроде творческого опекуна. Пашка старался оправдать надежды и не разочаровывать своего руководителя. Однажды тот ему сказал:
– Ты вырос. Скоро начнешь сталкиваться с реалиями этой жизни. Хочу, чтобы ты к ним был готов. Понимал – что происходит вокруг тебя в те или иные минуты жизни. Особенно, когда ты счастлив. Не удивлялся, не задавал потом вопросы: «Как же так?!..»
Запомни, Павел! Успех – это когда ты приобретаешь врагов. Из ниоткуда. Из ничего. Большой успех – это когда ты теряешь друзей. Практически всех и сразу. Остаются только настоящие. И в радости, и в печали. Оглянись, посмотри – есть ли такие?..
Глава шестая
Время – стремительный акробат. Пересекает жизненный круг арены в три прыжка. Не успеешь оглянуться, аплодируешь его уходу за кулисы…
В Москве с деревьев – этих стойких генералов осени – летели золотые эполеты, сбитые вихрями времени и ночными заморозками. Ветер, словно футболист, поддавал потускневшее золото свечой вверх, кружил воронками маленьких грустных смерчей. Наигравшись, бросал под ноги озябших прохожих, которые с хрустом топтали отгулявшее прошлое, уходя в свое странное неизвестное будущее…
Вытянутые прямоугольники людских фигур вразнобой шагали вниз по ступенькам подземного перехода близ «Арбатской». Он их заглатывал и выплевывал на противоположной стороне у «Праги».
Пашка неторопливо шел по Старому Арбату, вглядывался в лица прохожих, в названия старых книг на лотках, в картины и картинки на подрамниках, в лица уличных художников, продавцов сувениров. Он, когда ехал из центра, часто прогуливался этой московской улочкой от «Праги» до МИДа. Переходил по мосту через Москву-реку и по Бережковской шагал к себе домой на Мосфильмовскую. Это был его обычный маршрут. Ему нравилось бродить по московским улицам и переулкам. Исхожено было все. Москва оказалась не таким уж и большим городом, если исключить современные спальные районы. Там всё на одно лицо…
Старый Арбат его волновал особенно. Это была улица-представление, улица-театр, улица-подиум с фланирующими тут фриками, бардами, алкоголиками и прочими романтиками. У всех было что-то индивидуальное, штучное, на чем можно было остановиться взглядом, прицелиться, пофантазировать, придумать рассказ о предположительной жизни того или иного персонажа.
На фонарном столбе, рядом с театром Вахтангова, обхватив ногами чугунный остов, декламировал стихи Бродского какой-то чудак с длинными волосами. По дикции, напористости и отчаянному виду – явно студент театрального вуза. Авось заметит кто-нибудь из вахтанговского руководства, и он окажется в стенах вожделенной Мельпомены. Тут же факир, глотая керосин, пускал изо рта фонтаны огня. У «стены плача» с портретом Виктора Цоя толпились приезжие. Сидя на корточках, в респираторе, на глазах у малочисленных зрителей художник-виртуоз творил свою очередную космическую картину. Вокруг него стоял десяток аэрозольных баллончиков, с которыми он ловко управлялся. Терпко пахло нитрокраской и свободой творчества.
Пашка уже почти дошел до «Смоленки», как вдруг решил сегодня домой пешком не идти, а вернуться на «Арбатскую». Нравилась ему эта станция своей какой-то первозданностью. Словно попадаешь в пятидесятые, а то и раньше. Одна черная табличка «Буфет» на потертой временем дубовой двери в конце перрона чего стоит. Ни на какой другой станции московского метрополитена подобного он не видел. Эти стены помнили многое и многих. Машина времени…
Пашка развернулся у МИДа и неторопливо пошел в обратную сторону, по привычке отмечая много раз читанные мемориальные доски на домах.
Он шагал, поглядывая по сторонам. Посередине улицы на стульчиках сидело несколько художников, которые рисовали портреты, шаржи, обещая полную копию вашей души.
– Эй, парень!.. – Пашка повернул голову. Его окликнул худощавый небритый старик в старых замызганных джинсах и такой же куртке. Он, словно отдавая честь, приложил руку к бейсболке, из-под которой свисали давно немытые, выцветшие патлы. Художник пил кофе из пластикового стаканчика и улыбался прохожим.
– Кофе хочешь? Настоящий! Садись, поболтаем.
Пашка мысленно оценил: «Молодец мужик! Вот так надо заманивать клиента – два слова, улыбка, и ты у него уже на стуле. Через десять минут у тебя в руках портрет в карандаше, который далек от оригинала, а у него твои пятьсот рублей».
– Я тебя рисовать не буду, не бойся. Садись, погрейся. Октябрь в этом году какой-то недобрый. Рано похолодало. Листья вон табунами скачут по Арбату. Устраивайся. – Художник показал рукой на брезентовый складной стул. Налил из термоса кофе и протянул стаканчик. Пашка, перекладывая обжигающий пластик из руки в руку, удобно уселся и улыбнулся: «А чё, неплохо! День удался…»
Художник его рассматривал, впившись прищуренными глазами, словно готовился нарушить слово и броситься к ватману с карандашом, чтобы родить портретный шедевр.
– Вы на мне дыру протрете! – Как можно миролюбивее изрек известную цитату Пашка, смущаясь под пристальным взглядом хозяина стула, на котором он сидел. Художнику было что-то лет шестьдесят, а то и больше.
Определить было сложно – небрит, не ухожен, со следами многолетней алкогольной зависимости. Но с какой-то удивительной светлой притягательностью и внутренней радостной свободой во всех проявлениях, от жестов до вольных слов.
– А почему вы меня не хотите рисовать? Обидно! – Пашка отпил глоток, решил пойти на дерзость. «В самом деле – почему?»
– А я тебя уже нарисовал. Давно… – Художник поставил стаканчик на асфальт и стал копаться в папке с нарисованными ранее рисунками, – Вот! Смотри!..
Пашка тоже поставил свой кофе рядом с дымящимся стаканчиком художника и взял в руки ватман. Он смотрел, забыв обо всем на свете. На него смотрел… он сам! Пашка Жарких. Портрет был очень правильным, не утрированным. Даже скрытые эмоции переданы. Ну, может волосы на портрете чуть длиннее, лицо более мужественное. И глаза какие-то грустные, смотрящие куда-то мимо того, кто его рисовал. Словно он видел там что-то удивительное, зовущее…
– Ну как? Похож?
– Да-а… Ничего себе…
– По памяти рисовал. Накатило как-то…
– А кто это?
– Приятель мой по прошлой жизни. Давно это было, много воды и водки с тех пор утекло. Я когда-то в цирке работал. Да, да! Не смотри на меня так, это я сейчас такой ухайдоканный. Тогда был орел! Точнее, ангел во плоти. Слыл неплохим воздушным гимнастом. Меня тут все мои «циркачом» зовут. Можешь и ты так.
– Я не буду!
– Почему?
– Это… оскорбление. Нужно – цирковые или артисты цирка. Вы должны знать, если и вправду цирковой.
– Ух, ты! Молодец, парень! В десятку! Ты-то откуда знаешь?
– Слышал… – Пашка ушел от ответа. – И все же, кто это?
– Говорю же, мой приятель – Жара. Жонглер Пашка Жарких. Был такой. Ты на него здорово похож. Я чего тебя дернул, увидел, чуть со стула не упал – воскрес!.. Тебя-то как зовут, реинкарнация ходячая?
– …Жара. Пашка Жарких. Жонглер.
Художник стал медленно вставать, опрокинул оба стаканчика, замахал руками.
– Чур меня, чур! Этого не может быть! Это же не индийское кино. Знаю, Светка родила пацана, но вот так, в многомиллионной Москве, на Арбате, спустя тридцать лет!
– Двадцать пять.
– Чего?
– Двадцать пять лет, говорю.
– А! Ну да!.. – Художник засуетился, засобирался, не зная за что хвататься. – Так! Надо посидеть, поговорить! Такой случай – обалдеть! Кому расскажи, не поверят! Пашка! Жары сын! Охренеть!.. Немедленно ко мне! Тут недалеко, Сивцев Вражек, два квартала. Обалдеть!..
Они шагали, Пашка нес в руках деревянную треногу, художник катил сумку на колесиках.
– Дома особо пожрать нечего. Кофе валом. «Усугублять» не будем – давно не пью. Все, что положено, выпил, хватит… Пашка! Хм! Надо же! Обалдеть…
Глава седьмая
– Дядь Жень! А это кто?
Художник неожиданно слегка померк лицом, словно в старой квартире дореволюционного дома, где они находились, задернули штору.
– Это… «Портрет незнакомки…» Незаконченный, – Он продолжал с хрустом вращать изящно изогнутую рукоять старинной кофемолки, прижимая к груди деревянный куб с облезлой полировкой. Вот уже минут десять он крутил эту шарманку.
– А у вас что, нет электрической?
– И никогда не было.
– Это же долго! Нудно и непроизводительно.
– Слушай, маленькая Жара! Хотя, какая ты маленькая – вон какой вымахал, выше своего папашки. Представь себе – засунуть тебя в барабан и отцентрифужить по полной, как ты потом весь перемолотый будешь пахнуть? Так и кофе! Это – процесс деликатный, неторопливый. Это – магия, таинство…
Пашка не сводил взгляд со стены с давно выцветшими и местами оборванными обоями. Там в богатой раме висел портрет красивой дамы в роскошной шляпке с вуалью. Она прижимала к груди розу. Портрет был писан маслом и искусственно как-то наспех состарен. Кракелюры были грубыми, отвлекающими от красивого лица. Сам портрет вроде правильный, но было в нем что-то заметно торопливо выписанное. Он и в самом деле смотрелся незаконченным. Глаза на портрете из-под вуали вопили зеленым. Художник, видимо, все свое вдохновение и внимание направил именно туда. Рядом висела картина с парящими под куполом цирка то ли воздушными гимнастами, то ли красными ангелами. По цвету и изгибам тел явное подражание Матиссу.
Пашка напрягся, что-то припоминая, и вдруг его как обожгло!
– Дядя Женя! Это же знаменитый воздушный полет «Ангелы»! А рядом портрет тети Вали?
Дядя Женя затих со своей кофемолкой. Потом захрустел снова.
– Да, это мы. И она… Хм, тетя… Ей тут всего-то… Она мне тогда подарила свое фото с кинопроб. Вот я и срисовал. Это пока так, подмалевка. Все никак не закончу. Получилось то, что ты видишь, – мазня… Это сценка на балу. Там еще отец твой снимался. По ходу морду набил одному народному. Разворотил в павильоне всю киношную выгородку. Плотники с художниками-декораторами потом часа три вкалывали. Как раз из-за этой, хм, твоей тети… Вали. Или как он ее звал – Валечки… – В имя художник вложил весь свой сарказм. Продолжил, сопя от обиды.
– Что она в нем нашла, не понимаю? Длинный, худой, с телячьими глазами – кентавр!
– Почему кентавр?
– Потому что наполовину лошадь, наполовину – жонглер… – Голос художника вдруг обрел какие-то новые, теплые нотки.
– Это я раньше, дурак, не понимал, почему он, а не я. Мы с ней бок о бок, казалось, столько лет. Одна трапеция на всех. Небо общее. Я к ней, врать не буду, подкатывал. Однажды даже, спьяну, поспорил со своими партнерами, мол, оприходую. Она мне и вправду нравилась, без дураков, но – молодость есть молодость – кто чего тогда понимал! Она мне доходчиво объяснила. Сначала по физиономии, потом на словах, что партнеров, мол, не е… Короче, не спят с ними, с партнерами. Это как с родственниками – инцест. Но дело было не в этом. Это всё отговорки. Валентина – однолюбка оказалась. Хотя гульванила поначалу по-черному. Даже когда была женой твоего отца. Это потом все изменилось. В одночасье. После развода. Что-то сломалось в ней. Особенно, когда у него появилась Света – твоя мать. Пашка оказался настоящим мужиком. Я видел – метался он, маялся, места себе не находил, но так до конца и остался верен Свете. Потом этот пожар… Мы в Англии узнали. Валентина на самолет – только мы ее и видели… Вскоре мне пришла телеграмма из Главка, мол, теперь я руководитель «Ангелов»… Валентина, говорят, теперь где-то в церкви обретается. Даже не знаю, жива ли?
Для Пашки приоткрылась завеса жизни его отца. Совсем ненамного, на несколько морщин…
– Тетя Валя жива. Она в монастыре, в Воронеже. Постоянно ухаживает за могилами отца и Захарыча.
– Вот оно как! Жива, значит. Пашку не бросила и после смерти. Вот это любовь!..
Бывший ангел со следами преисподней на лице и израненным телом полетчика перестал хрустеть зернами «арабики», пошел на кухню. Там он высыпал в кованую джезву коричневый порошок, добавил щепотку соли и крикнул:
– Тебе с сахаром? Сколько?
– Сколько не жалко.
– Слава Богу, есть еще сладкоежки на свете. Хотя чего я спрашиваю – гены! Даже ответ тот же…
Через несколько минут по квартире разлился аромат душистого кофе. С кухни приказали:
– Маленькая Жара, лети сюда ангелом! Пообщаешься со старым чертом…