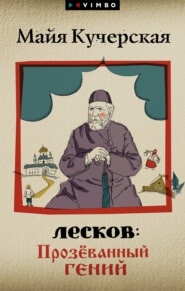
Полная версия:
Лесков: Прозёванный гений
Для Семена Дмитриевича и Марии Петровны переезд в деревню стал источником разочарований и едва посильных трудов, для их старшего сына – счастливой вольницей. Его подхватил поток свежих впечатлений, он нырнул в новые экзотические знакомства, неведомые прежде занятия и разговоры. Никогда в жизни он столько не гулял. Аннушку от него давно отставили: подрастали младшие – трехлетняя Наталья, двухлетний Алексей. Николаю зимой исполнилось восемь – совсем взрослый! Но не настолько, чтобы привлекать его к серьезной работе, и он бродил, где хотел, говорил, с кем желал, часто не возвращался даже к обеду. Родителям было не до него – они трудились: мать занималась младшими детьми, правила огород, гоняла кухарку, сушила матрасы и подушки, выписала из города письменный стол, чтобы отцу было где разложить бумаги. Крестьяне прозвали барыню Лесчихой. Даже небольшое имение требовало немалых усилий. «Панок» уже не из книг и тетрадей постигал азы земледельческой науки, бился с мужиками, как мог.
Николай купался с ребятами в Гостомке, ловил пескариков, смастерил из тальника лук и пускал стрелы с шариком вара на конце. Он выучился ездить верхом и ходил в ночное, под тихий храп лошадей и клики ночных птиц слушал, наслушаться не мог рассказов у ночного костра. «Бежин луг» Тургенева он прочел много лет спустя и, как сам писал потом, «весь задрожал» от представленной там правды: с такими же деревенскими мальчишками он сам сидел летними росистыми ночами, варил в котелке «картошки», и говорили о том же.
О русалке, что сидит на дереве, спрятав в листве рыбий хвост, чешет волосы золотым гребнем и заманивает путников.
О жутком разбойнике Кудеяре, кинувшем в колодец красавицу Василису, которая так и плачет там до сих пор. О зарытых им кладах.
О колдунах. Мальчики знали их по именам.
Самый страшный, Гусак, еще недавно жил в Гавриловском, в крайней избе, ближней к лесу. Он умел исцелять людей и скот, а мог навести порчу. Посадили его раз за колдовство в тюрьму, нарисовал он лодочку на стене, плеснул на нее водой – разлилось прямо в камере озеро. Сел Гусак в лодку, только его и видели… Снова стал колдовать. Беглеца опять поймали, крепко всыпали и назначили в наказание дворником в один орловский дом без жильцов. Так он и живет там, метет двор, в котором нет ни листочка и ни единого человека, любит только осень да зиму, когда летит листва, когда сыплет снег.
Николаю казалось, что он знает, где тот двор, чудилось, что и дворника этого он видел, когда гулял с Аннушкой: косматый седой мужик с бородой по пояс – Гусак это, видно, и был.
Слушал, слушал ночные рассказы у костра, укрывшись продымленным овечьим тулупом, задремывал незаметно. Гусак прямо на глазах уходил в сырую землю. На поля, в васильках и лютиках, выезжал добрый молодец на коне – молодой Егорий светлохрабрый, по локоть в красном золоте, по колено в чистом серебре. Во лбу всадника розовое солнце, в тылу – месяц, по плечам – звезды перехожие.
Николай поворачивался спиной к костру. С небес опрокидывался ливень, разноцветного всадника размывало, краски текли каждая сама по себе, сливались в цветные озерца. Он тянул их через тут же подобранную соломинку.
Первым пригубил пурпурный – и горящий этот цвет сейчас же окатил жаром легкие, сердце, затек в живот, налил свежей силой; всех теперь можно было одолеть. Следующий – перламутровый – сделал его лучезарным; изумрудный – прозрачный, как роса на траве в утренних лучах, – наполнил весельем.
Вот что он будет делать, как вырастет, – рисовать красками. Всадника Егория в розовом рассвете, страшного Гусака с метлой, пропитанное дымком ночное в красноватых отблесках.
Днем Николай заходил к дедушке Илье, мельнику, и сказка складывалась дальше.
Под мельничным колесом жил водяной – мирный, прирученный, свой. Не то что леший – тот гулял по чаще, любил посвистать, дерзал даже приблизиться к самой мельнице и густевшему рядом ракитнику, чтобы вырезать себе новую дудку, а потом играть на ней в тени у запруд-сажалок, пугать рыбу. У родников и речек хоронились его подружки-русалки и одна дальняя родственница – кикимора.
Как-то раз брызнул грибной дождик, Николай забежал в пустой амбар, смотрит – в углу кто-то сидит, скромно потупившись, вроде женщина, в пыльном повойнике, с золотушными глазами, но лицо что-то очень уж странное… она! Кинулся прочь, побежал куда глаза глядят. В лесу его страх сейчас же заметили: филины затукали, леший засвистал в зеленую дудку, а чтобы попугать посильнее, схватил Кольку за ногу, прижал намертво к земле. Насилу вырвался, еле жив воротился домой.
После всех этих ужасов Николая, чистосердечно признавшегося родителям, как он потерял каблук, засадили за Священное Писание, а мельнику Илье строго-настрого велели не дурить мальчику голову и держать свои небылицы при себе. Несколько дней Илья в разговоры с барчонком не вступал, отворачивался и уходил, пока принесенная из родительского сада чашка вишен не растопила его сердце.
Шло последнее для семьи Лесковых спокойное лето. Отец еще был бодр душой, охвачен горячкой нового дела, не сомневался, что и здесь добьется успеха. Мать помогала ему во всём и тоже поверила, что и на новом месте жизнь будет выстроена, вот-вот. Но 1839 год, первый помещичий год Семена Дмитриевича, выдался неурожайным: хлеба почти не собрали, продавать осенью было нечего, значит, нечем и возвращать долги. Понадеялись на следующее лето, но весной крестьяне наотрез отказались сеять яровые, по приметам поняв, что и в этом году урожая не будет. Семен Дмитриевич говорил им об удобрении почвы, о перегное; мужики пожимали плечами и хоронились один за одного, долдоня прежнее: по всему, барин, сеять никак нельзя. Самые бойкие даже объясняли ему: мало выпало снега зимой, сосульки висели внутри пустые. На Сретение, барин, какая мела метель! Еле откопались. А это самая первая примета, что урожая не жди. Посеешь осенью последние семена – зимой нечего будет есть, и тогда смерть.
Сама птичница Аграфена, которая – в это верила вся деревня – видела вещие сны, прорекала скорый и страшный голод. На Аграфенин роток не накинешь платок – она была из вольных однодворок, женщина честная и гордая, и никто не сомневался, что сны ее скоро сбудутся.
Что было делать с этим глухим, но неодолимым сопротивлением?
Ненависть к телесным наказаниям Семен Дмитриевич вынес еще из бурсы, крепостных своих никогда не сек. Барыня в семинариях не училась и мужниных взглядов на битье не разделяла. Позднее Николай не раз вымаливал у нее милости для отосланных на конюшню; пока же Лесчиха только осваивалась с новой ролью. В конце концов новоявленный помещик всё-таки повелел засевать пашни – и свои, и крестьянские – собственным, купленным впрок зерном, чтобы затем вместе с урожаем забрать у мужиков данное взаймы.
Но мужики и сновидица Аграфена оказались правы – весной не взошло ни колоса. Наступил страшный, голодный 1840 год, о котором Лесков рассказал много лет спустя в «Юдоли» (1892) с самыми живописными и жуткими подробностями: ели детей, девки отдавались за кусок хлеба. Во время этого голода умер еще один младший ребенок Лесковых, Миша, двух лет от роду (следующего сына назвали потом его именем); умерли несколько лесковских крепостных, умирали и многие вокруг.
После этой беды Семен Дмитриевич не мог заплатить генералу Кривцову не только долг, но даже проценты за него; Гавриловское и Кривцово были поспешно проданы, орловский дом на Дворянской улице сдан пока в аренду, но вырученные за это 60 рублей не спасали дела.
Так и получилось, что с покупки Паниного хутора и Гавриловского начался медленный финансовый крах семейства Лесковых.
Севск: бурса
Отобедав гречкой, он успел как раз вовремя: в тарантас уже рассаживались знакомые пассажиры. Судариков спорил с молочным купцом, где лучше ярмарка – в Севске или Глухове. Ямщик озабоченно заметил, что в Севск надо бы поспеть засветло, там и заночевать.
В Севске когда-то учился Семен Дмитриевич. Николай никогда там не бывал, вот и поглядит, где родитель провел лучшие годы.
Отец… Так и не поговорили толком по душам, хотя однажды просидели вместе за книжками целую зиму, отец готовил его к гимназии – и подготовил. Семен Дмитриевич никогда не давил, а всё-таки легким человеком не был. Легкость, гибкость, уклончивость, дипломатия – дурные товарищи прямоте, честности и упрямству, отличавшим его с юных лет.
Семен Лесков происходил из «колокольных дворян», то есть порвал с родной средой духовных и получил потомственное дворянство вместе с чином коллежского асессора. Был он не робкого десятка и трудолюбец. Всё в нем – живое, энергичное лицо, оспинки на щеках, поступь, манеры – свидетельствовало: этот человек хорошо испробован и многое в жизни выдержит. Так оно и было, до поры.
Отец его, священник Дмитрий Петрович Лесков, служил в Казанской церкви села Лески (местные жители произносят название с ударением на первый слог) Карачевского уезда Орловской губернии[12], где в 1791 году Семен и родился. Происхождение названия села довольно очевидно – его окружали дремучие леса{20}. Упоминаются Лески с начала XVII века, находятся на речке Колохве. В 1770 году там на средства владельца, помещика Евтихия Ивановича Сафонова, началось строительство храма в честь Казанской иконы Божией Матери, оконченное только десять лет спустя.
Весь XVIII век в Лесках служили несколько поколений Лесковых. Сначала в храме Флора и Лавра – прапрапрадед писателя Семен, затем его сын Тимофей, дальше прадед Петр{21}, а уже в новой Казанской церкви дед Дмитрий. Дмитрий Петрович окончил Севскую духовную семинарию, служил при отце дьячком, в 1784 году женился на поповне из села Бутре Марфе Ивановне, а после смерти отца был рукоположен и поставлен на родной приход{22}.
Память о Марфе Ивановне в семейных преданиях Лесковых стерлась напрочь, даже имя ее выяснили только в XXI веке. Неудивительно: как и все матушки-попадьи, жила она безгласно, занималась хозяйством, рожала и растила детей – кроме Семена были еще Алексей, на два года старше, и Пелагея, появившаяся на свет в 1798 году. Ей и предстояло унаследовать приход в Лесках.
Лески стоят и поныне, пережив все бедствия русского XX века. В 1917 году усадьба последних владельцев села Муравьевых – Сергея Владимировича и его детей – была разгромлена крестьянами{23}. В 1920-м здесь был создан Лесковский сельский совет. Брянская газета «Наша деревня» за 1925 год описывает, как напившийся милиционер с компанией устроил в Лесках пьяный дебош{24}. В начале XX столетия здесь было около двух тысяч жителей, по материалам Всероссийской переписи 1928 года – 1889 человек в 330 дворах, по данным 2013-го –194 человека.
Я была в Лесках в конце марта 2019 года[13]. Часть села – покосившиеся брошенные избушки, другая – живая, с трактором, горками нарубленных дров, лошадями, рыжими курами и бойкими петухами, то и дело перебегающими дорогу. Живет в селе в основном старшее поколение. Вырваться отсюда трудно: даже автобус до ближайших деревень перестал ходить. Из кирпичей здания сахарного завода, построенного С. В. Муравьевым в начале XX века, в 1927 году сельчане сложили двухэтажную школу, которая и проработала до 2010-го. Когда школа закрылась, детям и их родителям нечего стало здесь делать.
Рядом с опустевшей школой – останки Казанской церкви, в которой служил дед писателя: фундамент, частично стены. Самый высокий, в небо уткнувшийся обломок, – в нахлобучке аистиного гнезда.
Немцы захватили Лески в 1941 году. В сентябре 1943-го, отбиваясь от советских войск, они поставили пулемет на колокольню, в ответ наши били прямой наводкой, но церковь до конца не разрушили. Советские саперы вроде бы хотели ее взорвать, но она так до конца и не поддалась. Тут-то и выяснилось, что помещик Сафонов строил крепко: толщина стен – шесть кирпичей. Выкорчевать кирпичи было почти невозможно – «лябастра закубрённая», как выразилась местная жительница. И всё же с тем, с чем не совладали снаряды, справились сельчане, постепенно растащив храм на печки и разобрав по домам иконы. Каждый год аисты прилетают и выводят на церковных руинах потомство; здешние жители их очень ждут, ими гордятся.
В 1950-е годы на волне интереса к Лескову Министерство культуры выделило деньги на создание в Лесках музея в его честь, но местные власти от щедрого предложения отказались: сам Николай Семенович в Лесках не бывал, отец его покинул село в 1810-е, а ради деда не стоило и затеваться.
Прихожане Казанской церкви конца XVIII века этому решению наверняка бы удивились: батюшку они очень уважали, ценили за честность, скромность и прямоту. Из соседнего села Шаблыкина к отцу Дмитрию приезжала чета Киреевских – Василий Александрович и Елизавета Федоровна – просить молитв о наследнике. И когда долгожданный сын родился, его мать в благодарность Богу и отцу Дмитрию за молитвы подарила храму богато украшенную Богородичную икону стоимостью в две тысячи рублей, а позже делала пожертвования регулярно – очень кстати: приход в Лесках был бедным. Вымоленный мальчик, Николай Васильевич Киреевский (1797–1870), стал кавалергардом, а по выходе в отставку – страстным охотником, знаменитым на всю Россию. Об охоте на зайцев, волков, лисиц и медведей, о любимых борзых собаках, назвав каждую поименно, он написал книгу «Сорок лет постоянной охоты: Из воспоминаний старого охотника» (1855).
Николай Семенович деда-священника никогда не видел – отец Дмитрий и его супруга умерли задолго до его рождения. Внук знал о них только из рассказов их дочери, своей тетки Пелагеи, и утверждал, что протопоп Савелий Туберозов в «Соборянах» списан с родного деда, добавляя, впрочем, что реальный отец Дмитрий был проще, но протопоп «напоминал его по характеру». Если действительно так, значит, дед был характеру «нетерпячего», горяч и прямодушен. Судя по тому, как он обошелся с сыном, это похоже на правду.
Дмитрий Петрович отдал Семена в ту же Севскую духовную семинарию, где сам прошел курс наук. Перед Семеном Дмитриевичем лежал нелегкий, но понятный путь: по окончании семинарии служить в родовом приходе Казанской церкви – сначала дьячком на клиросе, затем подыскать невесту, жениться, а там и принять по наследству из рук отца приход и почтение прихожан. На каникулах Семен возвращался домой, помогал матери в огороде, отцу в храме; был остер, памятлив, чист сердцем. И насчет будущего отец Дмитрий не тревожился: левитский род Лесковых яко финике процветет, яко кедр, иже в Ливане, умножится. Но всё получилось по-другому. По преданию, изложенному его сыном-писателем в «Автобиографической заметке», Семен, вернувшись после семинарии в родное село, не стал лукавить, тянуть, отсыпаться после казенного житья на домашних перинах, отъедаться матушкиными пирогами – брякнул сейчас же, за семейным обедом: в попы идти не намерен.
Отец Дмитрий уронил вопрос, другой; сын отвечал твердо, как о давно решенном. Батюшка побагровел, сказал кратко: «Вон!» Семена точно ветром отнесло в сени. Страшен был отцовский гнев, но коса стукнулась о камень. Котомка, не разобранная с дороги, так и лежала у самой двери свернувшимся щенком, словно предчувствуя всё и дожидаясь хозяина у порога.
Вскоре юноша, покорясь отцовской заповеди, уже спешил из родимого дома вон, с мешком и 40 копейками меди за пазухой халата, которые мать едва успела всучить ему с заднего крыльца. Марфа Ивановна знала не хуже сына: спорить, убеждать, молить мужа о милосердии – бесполезно. И дня она не поглядела на Семушку, даст ли Господь свидеться еще?
Не дал. Это была их последняя встреча. Семейные предания, утверждавшие, будто бы столь резко прерванная духовная карьера Семена и ссора до того огорчили отца, что вскоре свели его в могилу, видимо, не соответствуют действительности: отец Дмитрий умер уже после 1815 года – через четыре-пять лет после изгнания сына. Марфа Ивановна скончалась раньше, но когда именно, неизвестно.
Семен бежал не из отцовского дома, не из Лесков – из священнического звания. Что гнало его прочь? Что придавало решимости нарушить порядок, поддерживаемый несколькими предыдущими поколениями Лесковых? Выйти из духовного сословия было не так-то просто. Николай Семенович написал потом, что причиной побега стало «неодолимое отвращение к рясе», которое Семен Дмитриевич испытывал «всегда». Положим, «всегда» – фантазия; разве мог мальчик, впитавший церковную жизнь с молоком матери, росший рядом с правдивым, любимым прихожанами отцом, с самого рождения ненавидеть отцовское дело? Очевидно, что «отвращение к рясе» зрело медленно и соткалось уже в годы учения в Севске.
Севская семинария располагалась на территории Спасо-Преображенского монастыря. Но монастырских помещений для всех ее нужд не хватало. Общежития в семинарии не было, мальчики снимали жилье в городе, ютились в тесных квартирах, по несколько человек в комнате. Хуже других было тем, кто поселился в Замарицкой части города: путь оттуда шел через заболоченный луг, перебираться через него приходилось, сняв сапоги и засучив штанины, – и так до холодов, пока лед не сковывал хляби. Кровати были не у всех, бурсаки часто спали прямо на полу, завернувшись в тулуп или халат. Чесотку, простуду, вечный кашель и голод по равнодушию юных лет и непривычке к другой жизни можно было пережить – или не пережить: смертность была высокая. И всё же ужаснее голода и холода для вчерашних домашних мальчиков оказывалось бесчеловечие, обращенное в закон. За семинарские годы им предлагалось не только выучить латынь и богословие, но и преодолеть бездну между словами о любви к Богу, снисхождении к ближнему, которые им твердили на всех уроках, и реальностью – ежедневными порками, унижениями, пьянством преподавателей, жестокими потасовками учеников, беспощадной травлей слабых.
Семен начинал учиться вместе со старшим братом Алексеем – тот помогал ему обжиться на первых порах, защищал от старших драчунов, – а окончил семинарию один. Алексея забили до смерти в «каком-то семинарском побоище и из-за какого-то ничтожного повода»{25} – очень вероятно, у Семена на глазах.
Семинарские дрались друг с другом, с гарнизонными солдатами, с деревенскими, у которых с голодухи и из удальства воровали овощи на огородах. В «Соборянах» дьякон Ахилла рассказывал Савелию Туберозову:
«…однажды он, еще будучи в училище, шел с своим родным братом домой и одновременно с проходившею партией солдат увидели куст калины с немногими ветками сих никуда почти не годных ягод и устремились овладеть ими, и Ахилла с братом и солдаты человек до сорока: “и произошла, – говорит, – тут между нами великая свалка, и братца Финогешу убили”»{26}.
Братца Семена Лескова убили, кажется, однокашники, будущие священники, которым предстояло служить литургии, проповедовать милосердие и жертвенность. Во что верили, чему поклонялись эти немытые, сопливые, вечно голодные, обозленные на весь мир бурсаки? Ни во что и ничему, кроме кулака. Сила помогала выжить, да еще изворотливость и физическая выносливость. Силачам вообще жилось вольготнее, слабым, в особенности чувствительным – невыносимо. Бояться, болеть сердцем, тем более плакать считалось постыдным.
Били они, били и их. Секли на воздусех и на полу, розгами солеными и в две пары. Битье и зверства нередко сопровождались прямой подлостью – воспитанникам приказывали сечь друг друга: авдитору[14] – того, кто не смог ответить на уроке, а подопечному – своего авдитора, «налгавшего» учителю.
Началось всё, едва отец Дмитрий отвез сына в бурсу. Встретив во дворе, как потом выяснилось, учителя арифметики, мальчик поклонился старшему. Учителю это понравилось. Узнав, в какой класс определен новый воспитанник, он потрепал его по плечу и произнес мечтательно: «Жаль, голубчик, не ко мне ты попал, уж как бы я тебя сек!..»
Так они и жили – молодым полудиким стадом, которое то резвилось, играя в свои первобытные игры, то, набычась, долбило уроки и угрюмо шагало и шагало к выпуску, не чая его дождаться. Единственным надежным лекарством от болезни, тоски, обиды, душевной боли был глоток спиртного. В старших классах к нему прибегали часто. Самый знаменитый летописец семинарских будней, автор «Очерков бурсы» Николай Помяловский, заболел известным русским недугом как раз в годы учения, чтобы потом полжизни провести в кабаках, трущобах и умереть, не дожив до тридцати лет. От той же напасти гибли десятки, сотни вчерашних обитателей духовных училищ.
По окончании первой ступени обучения и переходе из училища в семинарию, наждаком огрубив души учеников, подготовив к взрослой жизни под архиереями и навек выбив веру в справедливость от высших, порки наконец прекращали. Но лгать, хитрить, зубрить от доски до доски нужно было по-прежнему – этому в семинарии учили превосходно, а вот молиться, любить – нет. О том, что души учеников нуждаются не только в окрике и лозе, не думали даже лучшие педагоги. Семен Дмитриевич не хотел иметь со всем этим ничего общего, никогда.
Помилуй Бог, неужели в бурсацкой жизни и в самом деле вовсе не бывало хорошего и семинарию населяли одни лицемеры?
Семен Егорович Раич, соученик Семена Дмитриевича, впоследствии поэт, переводчик с древних языков и домашний учитель Федора Ивановича Тютчева, свидетельствует: бывало и доброе.
Судьбы двух Семенов отчасти схожи. Семен Раич родился на год позже тезки, в 1792-м, а по окончании семинарии также вышел из духовного звания. На бедном сельском приходе служил и дед его, и отец, но отец к моменту поступления сына в духовное училище уже умер. Изначально Семен носил фамилию Амфитеатров, но в 1820 году взял другую – родовую.
Его старший брат Федор, в монашестве Филарет, также окончил семинарию в Севске, а вскоре сделался ее ректором и опорой осиротевшей семьи. Со временем Филарет стал митрополитом Киевским и Галицким и не раз бывал героем прозы Лескова. И во «Владычном суде», и в «Печерских антиках», и в «Мелочах архиерейской жизни» этот «благодушнейший иерарх русской Церкви» описан с самым теплым чувством: «Он родился со своею добротою, как фиалка со своим запахом, и она была его природою»{27}. Аромат его добродетелей донесся и до XXI века – в 2016 году он был канонизирован Русской православной церковью.
Севскую семинарию Филарет возглавил в 1802 году, в 25 лет. Сам недавний ее выпускник, он старался беречь учеников – его даже прозвали Милостивым, как и его святого покровителя Филарета, византийского землевладельца VIII века. Севск стоял на болотах, климат был гнилой, свирепствовали болезни, многие ученики умирали. Филарет начал ходатайствовать о переводе семинарии в губернский Орел. Делал он это в обход своего непосредственного начальства, епископа Орловского и Севского Досифея, понимая, что тот его не поддержит, – и оказался прав: Досифей, узнав о планах ректора, так разгневался, что велел схватить его, запереть в башню монастыря и пригрозил наказать батогами. Доброжелатели спасли Филарета от расправы и заключения, но не от перевода в захолустную Уфу, в бедную неустроенную семинарию. Досифей очень старался, но и он оказался не всесилен; в конце концов и от уфимского плена Филарет был избавлен. Однако семинарию из Севска в Орел перевели только 20 с лишним лет спустя, в 1827 году.
Тем не менее Семен Раич о годах учения вспоминает с благодарностью, не забыв отметить, что семинаристов берегли от простуд: «Конечно, наши семинарии имели – может быть, и теперь имеют – свою черную сторону, но есть у них и белая сторона. Не знаю, как в мое время развивалось умственное и нравственное образование в других епархиях, но в Орловской оно, несмотря на крайнюю ограниченность средств, было, можно сказать, в цветущем состоянии; этому способствовали по преимуществу две замечательные особы: епископ Досифей и ректор семинарии Филарет, теперешний киевский митрополит… Обе эти особы умели пробудить в нас любовь к наукам не строгими, жестокими мерами, но кротостию, снисхождением; они вели нас в храм просвещения не по тернам, а по цветам; в доказательство приведу два-три примера. При наступлении весны, во время ростепели, мы, из опасений простуды, недели по две освобождаемы были от классов и занимались по квартирам экстраординарно; весь май слушали мы учителей без обязанности ежедневно сказывать им уроки – короче, мы беззаботно праздновали у весны на новоселье. Весною и летом классы наши устраивались под открытым небом, в рощах (у нас их было две: одна березовая, другая дубовая), – и это нисколько не мешало учению, не останавливало его, напротив, подвигало вперед, давая простор мыслям и в то же время развивая и укрепляя физические силы; “mens sana in corpore sano[15]” – вот правило, которого благоразумное начальство наше никогда не теряло из виду. Задавали нам темы для сочинений в классе пиитики или риторики – и мы, бывало, разбредемся по рощам, по полям, вдохновимся и, увенчанные васильками, колосьями или молодыми древесными ветвями, возвращаемся с готовыми сочинениями и читаем их по тетрадям или импровизациею…»{28}
С таким же восторгом Раич описывает своих учителей, в особенности преподавателей пиитики и риторики. Среди них были и в самом деле люди замечательные – например, Яков Сильвестров, переведший с немецкого трехтомное философское сочинение Иоганна Фридриха Даленбурга «Бог в натуре, или Философия и религия природы», и Иван Михайлович Фовицкий, знаток российской и польской словесности, впоследствии ставший в Варшаве наставником Павла Константиновича Александрова, побочного сына великого князя Константина Павловича. В семинарии выписывали журнал «Вестник Европы», и значит, воспитанники читали не только Овидия, Горация, Вергилия, но и современных отечественных авторов.

