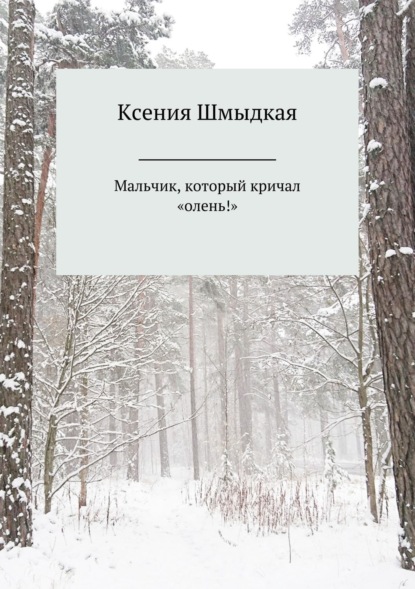 Полная версия
Полная версияМальчик, который кричал «олень!»
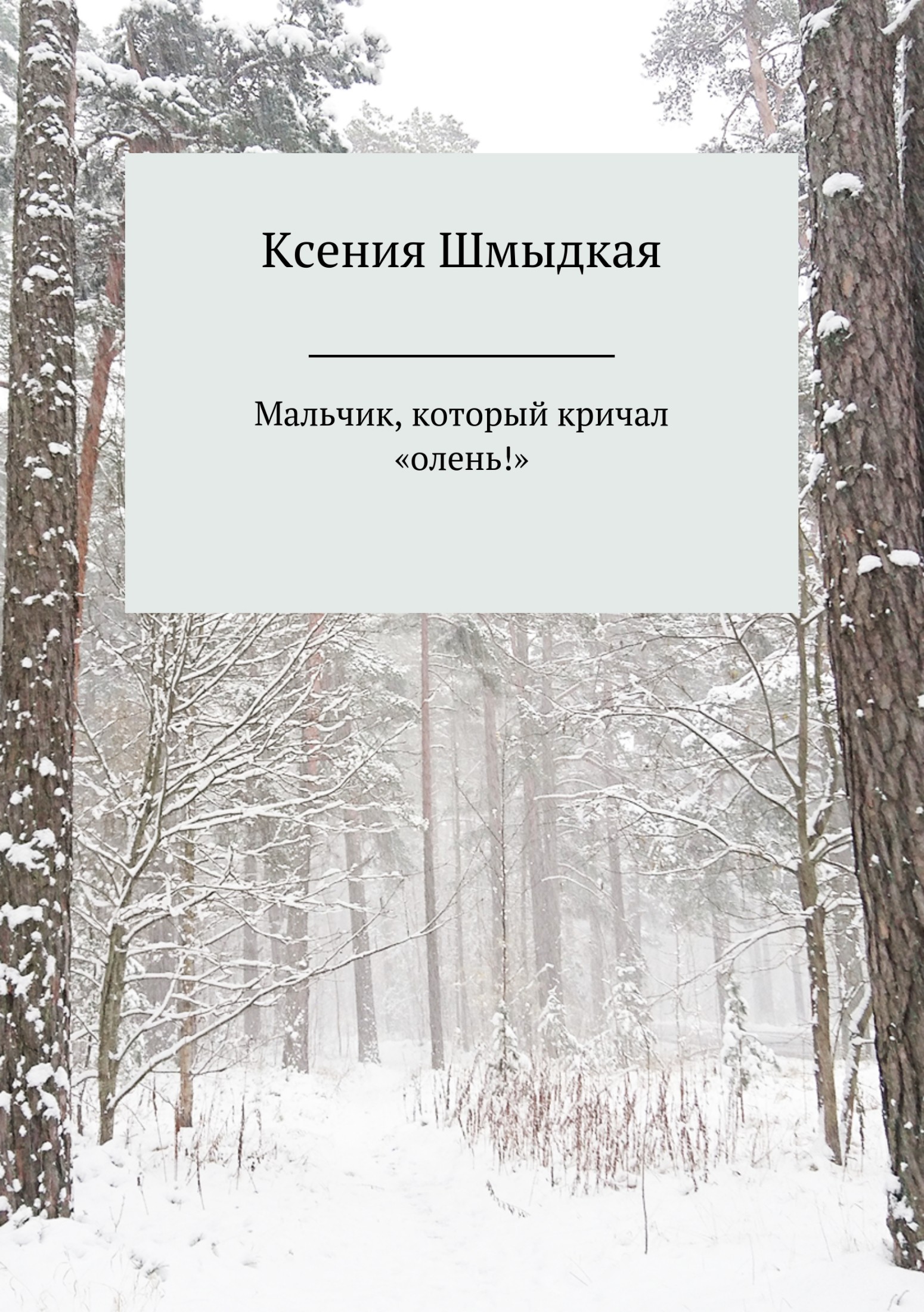
За почти пять лет своей жизни Василий никогда не видел настоящей зимы. Были зимы простые – капризно-переменчивые, когда, ложась спать, не знаешь, что увидишь за окном с утра, влажные и липкие, порой снежные, но ненадолго, – по одной на каждый прошедший год. Но до чего же они были непохожи на то, о чем рассказывали родители, показывая три замусоленные фотографии с незнакомыми улыбающимися людьми в сугробах. Рассказы эти Василий не любил: ему становилось неловко и как-то неприятно, обидно – неужели, раньше родителям было лучше? Неужели, им было лучше без него? Допустить такое, даже в своей голове, он не мог и в конце концов решил, что и не было никогда «настоящей зимы», а родители все выдумали, как любили они это делать с болезнями («не снимай шапку, простудишься») и собаками («не подходи к ней, она тебя съест»).
А потом Василию исполнилось пять лет, и в тот же день пошел снег. Да такой, который не растаял на следующий день. И на послеследующий тоже. Родители странно притихли и две недели, пока Василий изучал все возможности этого нового «настоящего» и к тому же постоянно подсыпающего снега, оставляя следы на каждом большом сугробе между домом и детским садом и обновляя их на обратном пути, будто ждали, настороженно и недоверчиво, что уж третий-то (четвертый, пятый, девятый) снеговик, наспех и неумело – практики не хватало – вылепленный Василием, не доживет до утра. Когда же число снеговиков перевалило за число пальцев их лепивших, родители с неожиданной резвостью схватили сумки, забили их доверху, достали лыжи и торжественно объявили, что завтра они все вместе едут отдыхать. Куда – не сказали, не сочли нужным, будто сам факт поездки был важнее места назначения.
В дорогу отправились ранним утром, которое, по-декабрьски темное, лишь названием отличалось от ночи. Так рано Василия даже в детский сад никогда не поднимали, не стали будить и сейчас. Перемещение из кровати в машину он запомнил отрывочно, больше ощущениями, чем изображениями. Было то холодно, то снова тепло, то защипало торчащие над краем шарфа щеки, то затянулся ремень. Под голову ему подложили подушку, и Василий довольно причмокнул, когда она завибрировала вместе с машиной. Спать под убаюкивающий ритм двигателя он любил, но обычно мама тормошила его, приговаривая: «потерпи, скоро доедем, потом не уснешь». Теперь же все было ровно наоборот; безо всякой подсказки Василий чувствовал, нет, знал, что никто его дергать не будет, напротив – будут вовсю стараться, чтобы он дремал как можно дольше. Все-таки, «настоящие» зима и снег хорошо влияли на родителей.
Так Василий и сказал – когда проснулся. А проснулся он, когда машина прекратила вибрировать, хлопнула дверца, потом – сколько-то сладостных сонных мгновений спустя – хлопнула еще раз, и в салоне горячо запахло кофе. Последнее сыграло решающую роль: мама всегда заваривала и выпивала первую чашку кофе перед тем, как идти будить Василия, и каждое утро этот запах смывал его сон двумя волнами. Сперва проникая из кухни через открывавшуюся дверь вместе с полоской приглушенного света, а затем на мамином дыхании, когда она наклонялась, чтобы поцеловать его в щеку или лоб. Кофе означал утро, и Василий не мог ничего с этим поделать.
– Ты что-то сказал? – переспросила мама, не глядя на него. Жестами она пыталась объясниться с папой, стоявшим снаружи. Из-за лыж – по паре с каждой стороны от пассажирского кресла – она не могла выйти сама.
Василий повторять не стал.
– Мы скоро приедем?
– Если будешь спать, то скоро.
Уловка была хорошая, но в носу звенело от запаха кофе, и Василий, даже при всем желании, не мог вернуться к уютной утренней дреме. Судьбу поездки – и ее продолжительности – решили два больших бумажных стакана с пластиковыми крышечками.
Еще раз хлопнула дверца, на этот раз особенно уверенно, как всегда она хлопала возле водительского места перед отправлением. Пока папа одновременно нахваливал не то себя, не то машину («до самой границы не хватит, но почти до самой – точно»), выруливал с заправки и обжигался о кофе (судя по низкому шепоту, в котором он прятал нехорошие слова), Василий вглядывался в пейзаж за мутноватым стеклом. Утренняя серость уступала блеску зимы. Чем больше они разгонялись, чем дальше удалялись от безымянного островка человеческой жизни с заправкой, кафе и туалетом, тем быстрее грязный снег возле дороги переходил в широкую полосу чистого белого, а потом и вовсе синел, прячась у подножья деревьев.
Даже припорошенный с верхушек до самого низа, окружавший дорогу лес казался Василию мрачным, почти угрожающим. «Что ты забыл здесь, городской мальчик?» – шумели ветки. Лишь изредка сквозь деревья прорывались лысые полянки, и Василий делал глубокий вдох, словно пловец, готовящийся к очередному нырку. От этой дыхательной и наблюдательской чехарды закружилась голова, потом начало подташнивать. Но все равно он продолжал смотреть, пока дорога не вильнула и папа не сбросил скорость перед въездом в город.
– Ничего, их будет все меньше и меньше, – сказал папа, будто извиняясь. – Сейчас проползем этот кусок, а на трассе уже разгонимся как следует.
– Веди осторожнее, мы никуда не спешим.
Мама говорила это в каждой поездке, даже когда сама была за рулем, и обычно Василий был с ней согласен (про себя, вслух он решения водителя, будь то мама, или папа, или кто-то еще, никогда не комментировал), но сейчас он не удержался, пробормотал себе под нос: «спешим, очень спешим». Они как раз выехали из города и попали в особенно плотный и неприветливый лесной коридор. Какое облегчение, что, несмотря на мамин недовольный вздох, папа ускорился. Быстрее, быстрее выскочить из заснеженных клещей елок и сосен. Быстрее добраться до того места, куда они едут.
А куда они едут-то?
– А куда мы едем-то?
Прозвучавший в ответ набор звуков был Василию настолько незнаком, что он не смог понять, кто ему ответил – мама или папа. Слово – название – отдавало посторонним акцентом, который сбивал с толку и мешал узнавать даже обычные, нормальные слоги.
– Куда-куда?
На этот раз Василий был настороже: сосредоточился и вслушивался внимательно, как на занятии по английскому языку.
– Отепя, – одновременно ответили папа с мамой; он – не без шутливого, но все же раздражения и с мягкой «е» посередине, она – с привычным терпением и глубоким, певучим «э».
– На лыжах кататься, – добавила мама, – в лесу. Там еще озеро рядом, можно гулять…
Василий уже не слушал. Лесные клещи смыкались, и не важно было, как быстро едет папа, теперь-то они уже никогда – никогда! – не выберутся из леса и из «настоящей» зимы. Ошарашенный этим осознанием, Василий зажмурился так, что искры в темноте засверкали и загудело в ушах, а потом раздался крик – настоящий, не в голове, – машина дернулась, заскрипела, вильнула, проехала еще чуть-чуть и замерла.
Василий открыл глаза и с запозданием заплакал. Было немного больно и много – страшно. Голос мамы прорывался к нему отдельными словами, которые слишком сложно сейчас было уложить во фразы:
– Ты в порядке… не ушибся… олень… просто на дорогу выскочил.
Папа отмалчивался – видимо, чтобы не срываться на ругательства. Олень же – теперь Василий видел его через водительское стекло: небольшое, какое-то облезлое животное – дергал ушами и не спешил убегать. Прошло еще несколько неловких секунд, прежде чем он дернулся всем телом, подпрыгнул и исчез в редких кустах, окружавших дорогу.
– И откуда он только взялся? Ты его видела? Я нет. Чертовы животные… почему до сих пор сетки не натянули или заборы? Какая польза от знаков?
Мама изогнула руку над лыжами и гладила папу по плечу. Пальцы ее при этом подрагивали – Василий видел это даже сквозь слезы.
– И ты тоже хорош, – рывком обернулся папа. – Чего ревешь? Подумаешь – тормознули резко. Ремень удержал, значит все нормально. Все хорошо у нас, все пристегнутые.
– Я больше не буду, – прошептал Василий.
Ему и правда больше не хотелось плакать, расстраивать маму, которой и так сейчас было нелегко, судя по тому, с каким усердием она гладила папино плечо. Одна радость для нее – дальше папа поехал медленно, настолько, что к тому моменту, когда они остановились в конце казавшейся бесконечной цепочки машин («граница», – объяснили ему, ничего не объясняя), Василий почти привык к лесу и, в отдельные мгновения, даже забывал его бояться. Отгороженный, к тому же, справа стеной фур, тот заметно потускнел и потерял часть своего угрожающего величия.
Снег подсыпал, небо бледнело, потом серело, потом начало темнеть, а они все еще не двигались. То есть, так казалось Василию, который то задремывал, то просыпался, когда ему чудилось, что они поехали, но впереди были все те же красные огоньки вокруг зазубренного наизусть номера. От этого чередования сна и не-сна Василий только больше уставал, и когда они наконец – на самом деле! – двинулись, заехали под какую-то крышу и начали хлопать дверьми, он уже плохо понимал, что происходит. Мелькнуло незнакомое лицо, потом его вытащили на холод, донесли до какой-то будки и показали другому незнакомому лицу. То взглянуло на Василия с утомленным равнодушием, словно ему тоже здесь не нравилось и оно предпочло бы быть в собственной кровати, подальше от незнакомцев, мороза, дороги и леса. Наконец, Василия отнесли обратно в машину, пристегнули и посоветовали спать. С облегчением, Василий послушался, надеясь проснуться уже утром.
Но проснулся он глубокой ночью. На этот раз – без какой-либо очевидной причины, просто сон исчез, а Василий остался, шокированный эти внезапным одиночеством и одновременно нахлынувшими ощущениями: неудобно сбившейся на спине курткой, нагретым до духоты воздухом в машине и острым краем ремня безопасности. Он приоткрыл глаза и не увидел за стеклом ничего, кроме своего зыбкого, растрепанного отражения. Наступившая ночь проглотила зиму.
– Па-а-ап, – полупрошептал-полупросипел Василий, едва узнавая собственный голос. Он и хотел повернуться, и не мог: кто знает, что может выскочить из этой темноты, пока он не смотрит?
Из онемения его вырвало прикосновение маминой руки – легкое, едва ощутимое, но достаточное, чтобы Василий потерял бдительность. Перегибаясь через лыжи, мама улыбалась ему той уставшей улыбкой, которая, хоть и успокаивала, всегда оставляла у Василия неприятное чувство (мамы не должны быть уставшими).
– Папа следит за дорогой, – сказала она тихо, будто боясь разбудить кого-то. – Потерпи еще немного, мы скоро приедем.
И снова отвернулась, превратившись в узкий, похожий на месяц, профиль с красноватой мочкой уха, торчащей из-под светлых волос.
Василий вместо ответа зевнул и тоже отвернулся, к своему окну. Словно испугавшись его смелости, ночь вздрогнула и начала отступать. Не полностью, лишь на пару метров вокруг машины, но достаточно, чтобы во вспышках света Василий мог разглядеть неестественно чистый снег обочины и редкие указатели. Буквы на них казались знакомыми, но переплетались в непривычном порядке, а иногда даже крали друг у друга фрагменты. Вот «а» с двумя точками от «ё» – это что такое? Василий уже открыл рот, чтобы спросить, но вспомнил мамино замечание и передумал, вместо этого вытягивая шею и стараясь разглядеть, что там впереди, в свете фар. Сперва он видел ничего, кроме сверкающего туннеля из летящих навстречу снежинок, но постепенно темнота, казавшаяся однородной, стала разбиваться на тени и оттенки, менявшиеся по ходу движения: если вокруг был лес, она становилась серо-коричневый, а если деревья уступали место полю – блекло-сиреневой.
Довольный новообретенным ночным зрением, Василий бросил взгляд влево. И вовремя – там было что-то неладно. Что именно, он долго не мог понять, напряженно щурясь, а потом увидел – часть мерно мелькавших сугробов постоянно находилась в тени, причем тени посторонней, не принадлежащей ни машине, ни дороге. Она то замедлялась, то ускорялась, но постоянно держалась рядом, словно верная собака, бегущая за уезжающим хозяином.
Но собаке-то здесь откуда взяться?
Они как раз проезжали поворот, узенькую ведущую в лесную чащу колею на одну машину, но зато отмеченную тусклым фонарем. В его свете у тени появились четкие границы и знакомые – так, во всяком случае, показалось Василию в тот момент, – черты: тонкие ноги, нервно вздрагивающие уши.
– Олень, там олень! – выкрикнул он.
И снова визг тормозов, резкое торможение и тихие ругательства с сиденья перед ним. На этот раз они ехали значительно медленнее, так что и потрясение, и звуки вышли более приглушенными, но Василий все равно понял, что ему сейчас влетит.
Папы не было видно, но по тому, как засуетилась мама – насколько ей позволяла клетка из лыж – было очевидно, что тот едва-едва сдерживается, чтобы не обернуться и не закричать. Никакого оленя на дороге – ни впереди, ни сбоку – конечно же, не было.
– Милый, не шути так. Ты же понимаешь, что это опасно.
У Василия защипало в носу.
– Я не шутил, не шутил. Был олень.
Говоря это, он понимал, что говорит не до конца правду: он точно что-то видел, но чем больше времени проходило, тем меньше это что-то казалось ему похожим на оленя. Уши и ноги растворялись в потоке секунд, а на их месте вырисовывались чернильные линии совсем другого… чего-то.
– Мы все устали, – пробормотала мама, непонятно, к кому именно обращаясь. – Давайте уже доедем до дома, а поговорим завтра.
От этого «поговорим завтра» нельзя было ожидать ничего хорошего, и оставшуюся дорогу Василий перебирал в голове все возможные наказания, которые обрушатся на него с утра. За этим занятием он так увлекся, что даже подзабыл о странной тени. Оставят без сладкого? Откуда в лесу взяться сладкому? Отложат наказание до дома и оставят без сладкого уже там? Оставят его самого в лесу? Совершенно точно – будут говорить недовольным голосом и с такой задержкой, словно решают, снизойти до беседы или нет. Все серьезные проступки сопровождались таким наказанием, по мнению Василия, самым ужасным: он сразу чувствовал себя в полном одиночестве (как говорила бабушка, «сиротинушкой»), а еще боялся, что если ему станет плохо – живот заболит или кровь пойдет – никто ему не поможет. Слезы тут не помогали, он проверял.
Смакование ужасов прервалось вместо с работой мотора. Фары выхватили из темноты небольшой деревянной дом, возле которого уже было припарковано несколько машин. На нижнем этаже в окнах горел свет, но верхний был темным, и от того казался заброшенным.
Дверцу Василия открыл папа (мама возилась с лыжами). Василий попытался поймать его взгляд, но в темноте разглядеть папино лицо было тяжело.
– Приехали? – заискивающе спросил он.
Папа только кивнул.
Из машины он не вылез – вывалился. Отвыкшие от движения ноги дрожали и не хотели держать слишком тяжелое, будто припухшое за часы поездки тело. Свет из окон больше сбивал с толку, чем помогал, и Василий не рисковал сделать даже шаг в сторону от дверцы. Ему казалось, что в любой момент он может провалиться в ночь и там и остаться, забытый всеми. Родители переговаривались вполголоса.
– Какую из сумок взять?
– Доставай обе.
– А лыжи?
– Пусть лежат, утром разберемся.
Пока они возились, Василий поднял голову, закинул ее так, что аж шея хрустнула, а шарф спереди сполз и оголил кожу. Но холода Василий не чувствовал: теперь, когда он не видел ни мрачного леса, ни полуслепого неприветливого дома, ни неестественной темноты, в которой тонуло все вокруг, его зрение словно перефокусировалось и показало ему то, что за свои пять лет жизни Василий видел еще реже чем «настоящие» снег и зиму – звезды. Ветер разогнал снежные тучи, и теперь над ним раскинулась сине-фиолетовая бесконечность, усыпанная тысячами, нет, миллионами, нет, миллионами миллиардов сверкающих точек. Дома небо было другое, тусклое и кислое от круглосуточного городского света. Как странно, подумалось Василию, что в разных местах оказывается разное небо, если космос – родители говорили – один на всех.
– Мама, – прошептал он. – Мама, посмотри.
Но мама не посмотрела. Взяла его за руку, хлопнула дверцей машины и потянула к дому. За ними, чуть согнувшись под весом сумок, топал папа.
В прихожей никого не было, только несколько закрытых дверей, лестница наверх и странный, немного химический запах. Василию показалось, что он слышал негромкие разговоры за одной из дверей, но они пошли не туда, а к другой, самой дальней. Открыли ее, прошли через просторную комнату с обеденным столом в центре, потом открыли еще одну.
Эта комната оказалась меньше: узкая свободная полоска шла от двери до окна, по обе стороны стояли кровати. Слева пошире, справа поуже. В небольшое пространство между изножьем широкой кровати и стеной папа кинул сумки и прямо так, не раздеваясь, упал лицом на покрывало.
– В душ пойдешь? – спросила у него мама, вынимая Василия из бесконечных слоев одежды. С себя она при этом еще не сняла даже шапки, и на ее покрасневшем лице выступили капельки пота.
Папа пробормотал что-то неразборчивое.
Василий же разрывался: он хотел спросить у мамы, можно ли сегодня не чистить зубы (от одной мысли, что надо идти в ванную – еще непонятно, какая она здесь – и что-то делать, эти самые зубы начинали ныть), но в то же время думал, что, может, лучше промолчать и она не вспомнит.
Она не вспомнила.
Стоило погаснуть свету, и родители уже спали. Василия это всегда удивляло: как у взрослых удается засыпать так быстро и так крепко, что даже настойчивые дерганья за руку будят их далеко не сразу? Его самого ночью мог разбудить любой разговор в соседней комнате, и тогда он подолгу лежал в темноте с одним открытым глазом, потому что вглядываться в ночные тени двумя было страшно, но и закрывать оба он не решался.
Свернувшись под непривычно плоским одеялом на незнакомой, твердой подушке, Василий тосковал по дому. Он с удовольствием променял бы странные ночные сумерки этой комнаты на знакомую домашнюю темноту, в которой он угадывал каждый угол, а под боком лежал большой, немного потрепанный и потерявший в стирке цвета заяц (взять его с собой родители почему-то не разрешили).
Хрусть-хрусть, – донеслось с улицы.
Хр-хр, – послышалось с соседней кровати.
Василий моргнул. Наверное, послышалось.
Хрусть-хрусть.
Храпа не последовало. Родители продолжали лежать беззвучно, и, если бы не темные контуры их одеяла, Василий мог бы поверить, что на соседней кровати никого нет.
Хрусть-хрусть.
Чтобы выглянуть в окно, Василию нужно было чуть-чуть потянутся и сдвинуть занавеску, но мысль об этом пугала больше, чем любой домашний кошмар. Ни скрипящий шкаф, ни дребезжащий холодильник, ни даже пощелкивания стен (родители как-то пытались объяснить, из-за чего это происходит, но Василий не запоминал – зачем знать, какие чудовища живут внутри?) не наводили такого ужаса, как это прерывистое похрустывание за окном.
Может, это просто сосед вышел погулять. Ночной лыжник.
Хрусть-хрусть, – еще ближе.
Василий постарался не дышать, отделываясь редкими судорожными зачерпываниями воздуха, но быстро понял, что так его только больше слышно. Звать родителей точно было нельзя: во-первых, их еще надо добудиться, а во-вторых, тогда уличное что-то точно услышит. А так, может, оно решит, что здесь пусто и уйдет.
Хрусть-хрусть.
Нет, это что-то точно видело их машину. Оно знает, что они здесь. Может, это оно и было, на дороге?
Хрусть-хрусть.
Ладони и щеки у Василия были одинаково мокрые. Первые – от пота, который он – разумеется, тихо-тихо – постарался вытереть о простыню. Вторые – от слез и немного соплей, стекавших на подушку, потому что сморкаться беззвучно Василий не умел, а звучно…
Хрусть-хрусть.
Василий сел в кровати. Родители пошевелились, но не проснулись. За окном еще раз хрустнуло – совсем близко – и затихло.
– Олень, это олень, – прошептал Василий, вытирая нос рукавом пижамы. Страх был так силен, что внутри у него что-то онемело, и теперь он мог не только шевелиться, но и понемногу, по сантиметру за сантиметром, подбираться ближе к окну. Все то время, что у него занял этот путь, за окном было тихо.
Наконец, Василий уперся коленом в подушку, приподнялся, схватился за занавеску и, не думая, отдернул ее.
Это совершенно точно был не олень.
***
Шумел, шумел летний лес, но Василий этого не слышал. Во-первых, из-за естественного гудения движущейся машины. Во-вторых, из-за наушников. На самом деле он наушники не очень-то любил, но сейчас выбирать не приходилось: чтобы отгородиться от мира снаружи годилось все.
Василию было уже девять («с половиной», как обязательно добавлял он), когда начались летние каникулы, и родители решили поехать подышать воздухом. Настоящим, а не как дома. На велосипедах покататься. О чем они радостно ему и сообщили, причем, в своем обычном стиле, за день до.
– А куда мы едем-то? – спросил Василий и чихнул от внезапной щекотки в носу. Вопрос звенел угасающим эхом, словно он уже был задан раньше, а сейчас только повторен.
Родители переглянулись.
– Помнишь, много лет назад, когда ты был еще маленький, – осторожно начала мама, – мы зимой ездили покататься на лыжах? Ты тогда… испугался.
О, Василий помнил. Точнее, большую часть времени он как раз не помнил, но это было результатом старательной работы психолога, к которому его водили до самой школы и потом еще несколько месяцев, на всякий случай. Гибкая детская память не сразу, но все же приняла столь дорогую родителям и специалисту форму: ту, в которой утомительная дорога, заснеженная ночь и не-олень за окном сперва были загнаны в клетку «слишком богатого воображения», а потом и вовсе запрятаны в самый дальний угол, где о них не пришлось бы постоянно спотыкаться. Но стоило расслабиться, немного забыться или просто начать вслушиваться в ночную темноту, как воспоминания возвращались, ничуть не потускневшие за прошедшее время. Василий не плакал, не кричал и не признавался родителям, чтобы их не расстраивать, но он помнил. Собственный крик, перебудивший тогда весь дом, иногда раздавался у него в голове за несколько минут до будильника. После такого пробуждения Василий всегда шел мерять температуру, уже зная, что в школу ему идти не надо, – навязчивый кошмар стал верным предвестником болезни.
Немного помогало городское окружение, а точнее – отсутствие поблизости больших лесных массивов, но даже от пожухлого, едва живого парка, где гуляли его друзья, Василий старался держаться в стороне, особенно зимой. Хорошо хоть все зимы, последовавшие за той, «настоящей», зимой, были малоснежные.
– Аааа… ну, помню, – сказал Василий. Что значило «пожалуйста, только не туда, не надо, давайте останемся дома, я помою посуду и буду пылесосить все лето, только не туда, давайте к бабушке на дачу, только не туда, пожалуйста», но Василию было девять с половиной лет, а папа, не зная, как еще можно воспитывать напуганного непонятно чем сына, только и повторял ему последние четыре года, что мальчики ничего не боятся. – Отепя или как там ее?
Родители снова переглянулись. На этот раз с явным облегчением, а папа еще и кивнул: смотри, мол, какого я молодца воспитал. Но даже папу, кажется, не до конца успокоило его напускное равнодушие, потому что за всю дорогу он ни разу не сказал Василию перестать сидеть в планшете («глаза испортишь») или вынуть наушники («с нами лучше поговори»), и Василий этим пользовался, погружаясь в цифровой транс, в котором не было места ни лесу, ни страху. Из машины он вылез лишь дважды. Первый – на заправке, когда количество выпитой воды победило нежелание покидать салон. Не глядя по сторонам, Василий проскользнул в здание, опередив при этом папу, а на обратном пути, застав его у кассы, выпросил хот-дог – небольшое, но все же утешение. Второй – на границе, где Василий смотрел на крышу, пытался ее узнать, но проваливался: то ли она изменилась, то ли он сам. Вот холода, бродившие в коридоре для машин, было точно те же; несмотря на летнюю жару, мама куталась в накинутую на плечи ветровку, да и папа вздрагивал, когда пересекал поток сквозняка.
– Зябко тут у вас, – сказал он с заискивающим смешком человеку в окошке. Что тот ему ответил, Василий не услышал.
Июньские дни – самые длинные, и поэтому до Отепя они добрались засветло. После границы планшет разрядился, и всю дальнейшую дорогу Василий смотрел строго вперед, в спинку водительского кресла, ни в коем случае не позволяя скосить глаза в сторону. Он и рад был бы зажмуриться, для надежности, но так бы он себя точно выдал. Выбранная интуитивно стратегия работала успешно ровно до того момента, когда мама обернулась, улыбаясь, и сказала:
– Смотри, как красиво.
Реакция была автоматической: Василий послушно повернулся к окну, и только потом с ужасом понял, что нарушил собственное правило.
– Красиво, – только и смог сказать он.

