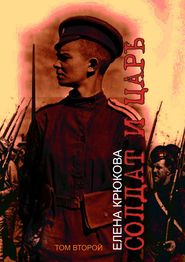скачать книгу бесплатно
«Он тебе потом такого наставит… не дури…»
– А у меня косушечка есть!
Вынул из кармана косушку. Поводил ею в воздухе.
– А еще у меня… вот что есть!
Вынул из другого большую сизую бутыль, в ней плескалось мутное, белесое.
– Глафирка гнала. Ох, слезу вышибает! Закуска-то как? Имеется? Али поварихой закусим? Ты не против? От задка кусочек…
У Михаила перед глазами помрачнело.
– Ты, говори, да не заговаривайся.
– Сейчас народ разбужу! Эй! Народ!
Орал в полный голос. Из караульной высовывались головы.
– А, повар Гордей.
– Мошкин это!
– Повар Гордей, не стращай людей…
Мошкин, держа в обеих руках водку и самогон, вращал бутылками не хуже, чем жонглер в цирке.
– Давай-давай, ленивцы! Отметим нынешнюю ночку!
– А што, Мошка, нонешняя ночка сильно отличацца от давешней?
На круглом веселом, лоснящемся лице Мошкина, скорее женском личике, с мелкими кукольными противными чертами, для мужика негожими, нарисовался таинственный рисунок. Он прижал к губам бутыль с самогоном, горло бутыли – как прижимал бы палец: тс-с-с-с.
– Тиха, тиха… Я вам щас… отдам приказ. Живо в гостиную! И валяйте оттуда – несите роялю в караульную!
Солдаты, потягиваясь, выходили из караульной. Кто не спал, стоял на часах – винтовки на плечи вскинул, подошел ближе: что за шум, а драки нет?
– Слыхали! Быстро – роялю – в караульную! Не… обсуждать-ть-ть!
Оглянулся на застывшего Лямина.
– А ты глухой, што ли, Лямин?! Или ты против?! А-а-а-ах, ты против… приказа?!
– Я не против! – Лямин прислонил винтовку к перилам.
Солдат Исупов схватился за ручку двери в гостиную и рванул дверь на себя.
«Вот так бы взять… и рвануть дверь… ту…»
Царям приказано не запираться на ночь. Они выполняют приказ. Они – послушные. Они – овцы.
Солдаты, стуча сапогами, вваливались в гостиную, обступали большой рояль, похожий на застылое черное озеро, озеро под черным льдом, – раньше инструмент стоял в чехле, да холщовый чехол содрали безжалостно – на солдатские нужды, на портянки.
– Эка какое чудище!
– Дык она же чижелая, рояля эта.
– А нас-то много.
– Ты, Севка, заходи с тыла! С тыла!
– А игде у ее тыл?
– Где, где! В манде!
– Давай, ребя, хватай! Подымай!
– Раз-два-взяли… еще раз взяли!
– Понесли-и-и-и-и-и!
Спускали рояль по лестнице, как чудовищный, для невероятного толстяка, черный гроб. Струны скорбно звенели. Толстые рояльные ножки ударялись о перила. Солдаты крякали, хохотали, шутили солено, жгуче.
– А ты всунь, всунь ей под крышку! И прищемит навек.
– Похоронную музыку умеешь играть?! Не умеешь?! Так научись.
– А точно, боком на бабу похожа! Так бы и прислонился.
– И ножки у ней, и жопка!
– А кто из нас наилучший музыкант?
– Да вон, Ленька Сухоруков! Он такую музыку игрывал в окопах! И на костях, и на мудях…
– Лень, и чо, народ слухал?
– Слухал, ищо как! И денежку кидал!
– Ну ты арти-и-и-ист…
Кряхтя, задевая боками рояля о стены, шумно, с криками и прибаутками, наконец, перетащили рояль в караульную комнату. Подкатили к окну.
– Ой, у ее и колесики… славно…
– Пошто к окну водрузил! Таперя к окну не подойдешь, фортку отворить!
Мошкин качался в дверях, все обнимал, лелеял свои бутыли.
– Вот, отлично, хорошо, люблю! Муз-з-зыку…
– Эй, тяни стаканы!
– А мы из горла. По кругу.
– Заразишься какой-нить заразой!
– А ты чо, больной? Не дыши на меня!
– Да ты ж не доктор, дышите, не дышите…
Федор Переверзев уже тащил гармошку. Уже перебирал пальцами по перламутровым пуговицам, растягивал меха.
Мошкин, шатаясь, добрался до рояля. Ему услужливо пододвинули стул. Он сел, проверил задом, крепко ли, хорошо ли сидит, покачался на стуле взад-вперед, даже попрыгал; откинул крышку, нежно, пьяно погладил клавиши.
– Ух ты моя маленькая, роялюшка моя. Как давно я на тебе не играл. А вот щас поиграю на душеньке моей.
Обе руки на клавиши положил.
Михаил смотрел: черная-белая, черная-белая, и так торчат в рояльной пасти все эти зубы – то черные, то белые. В ночи – светятся. В караульной темно. Илюшка внес зажженную керосиновую лампу. В лампе, внутри, трепетал, умирал и рождался опять смутный, мерцающий сквозь всю закопченную жизнь, хилый огонь. Красный. И тут красный. Странный красный фитиль, красно горит.
«И неужто будет играть? Брямкать по этим черным, белым зубам?»
Мошкин вжал пальцы в клавиши, а потом побежал ими по клавишам, и из рояля полезли, поползли, а потом и полетели упрямые звуки. Звуки жили отдельно, а Мошкин отдельно. Неужели он все это делал своими руками?
«И где только научился?»
Мошкин запел мощно, пьяно, фальшиво и все-таки красиво.
– Ах, зачем эта ночь! Та-а-ак была хороша… Не болела бы грудь! Не страдала б душа!
Солдаты знали эту песню. Подхватили.
– Полюбил я ийо-о-о-о… Полюбил горячо-о-о-о! А она на любовь… смотрит так холодно…
Лямин крепко почесал себе грудь поверх гимнастерки. «Фу, пахну, стирать одежду надо, в баню надо. Когда еще поведут?»
В стекло часто, мотаясь под теплым сильным ветром, била усыпанная крупными зелеными почками ветка.
«Будто сердце бьется».
– И никто не вида-а-ал… как я в церкви стоял!.. Прислонившись к стене-е-е… безутешно… рыда-а-а-ал!
– Слышьте, ребята! Кончайте вы это уныние! Оно же и смертный грех, однако! Однако давайте-ка наши, родненькие припевочки! Эх-х-х-х!
Илюшка нес стаканы, вставленные один в другой, высокой горкой. Раздавал стрелкам. Солдаты брали стаканы, вертели, переворачивали, нюхали.
– Чисто ли вымыт, нюхашь?
– А как иначе! Выблюешь же, ежели – из грязи пить!
– Да по мне хоть из лужи, был бы самогон крепкий!
– Повар Гордей, наливай!
Обе бутыли, притащенные Мошкиным, стояли на рояльной крышке.
Мошкин встал, качнулся, но удержался на ногах; зубами открыл одну бутылку, вторую, ему подносили стаканы, и он наливал так – из обеих рук. И ни капли на пол не сронил, такой аккуратный.
Солдат Переверзев закрутил, завертел гармошку, растянул, сжал, гармошка издала пронзительный визг, потом зачастил, забегал пальцами по пуговицам, и сам зачастил голосом, выталкивая веселые жгучие слова из щербатого рта:
– Ты куда мене повел,
Такую косолапую?!
Я повел тебе в сарай,
Немного поцарапаю!
Частушку подхватил, вернее, вырвал изо рта у Федора покрасневший после глотка водки Илюшка. Он подбоченился, вцепился себе в ремень, выставил вперед ногу в гармошкой сморщенном сапоге.
– Гармонист, гармонист,
Торчат пальцы вилками!
Ты сыграй мне, гармонист,
Как бараю милку я!
Подскочил, упер руки в боки Степан Идрисов:
– Эх, яблочко,
Ищо зелено!
Мне не надо царя,
Надо Ленина!
Все пили. Опустошали стаканы.
Стакан в руке у Михаила обжигал лютым холодом, запотел, будто стоял на льду или в погребе, и вот его вытащили и втиснули ему в кулак.
Он пил, глотал, самогон дохнул в него чем-то былым, забытым, – домашним. Пьянками, пирушками из детства – когда разговлялись на Пасху, когда, после смертей и поминок, друзья притекали к отцу, стукали четвертями об стол, рассаживались и сидели долго, и пили, и голосили песни, и быками ревели: плакали так.
Федор кинул Лямину через веселые шары, теплые кегли голов, юно и бодро подбритых, косматых, седых, лысых:
– А ты чо не поешь? Али не наш, не русский?!
Самогонка хватила обухом по голове. Все цветно и пылко закружилось, заблестело восторгом и слезами. Лямин поставил стакан на рояль, сделал ногами немыслимое коленце – подпрыгнул и ножницами ноги в воздухе скрестил: раз-два! – а когда приземлился, колени согнул, присел – и так пошел вприсядку, выбрасывая ноги в сапогах в разные стороны, и уже кого-то носком сапога больно ткнул, и на него выругались и засмеялись.
– Эх, яблочко,
Да на тарелочке!
Зимний мальчики гребут,
А не девочки!
Эх, яблочко,