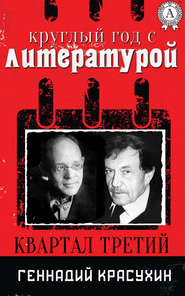скачать книгу бесплатно
В СССР исключение из партии подчас было исключением из жизни. Особенно, когда речь шла о писателях. Печататься под своим именем Балтер больше не мог. Все заключённые с ним договоры были расторгнуты. Друзья нашли для него выход. Ему давали подстрочники прозы писателей национальных республик. И он обрабатывал их. Чаще всего под именем кого-нибудь из друзей, который потом получал и отдавал ему деньги за перевод.
Неподалёку от подмосковного дома творчества писателей «Малеевка» в деревне Вертушино Борис приобрёл старый дом, который перестроил вместе с мастерами. Там мы с ним встречались, когда я приезжал в Малеевку.
Там Борис и умер 18 июня 1974 года.
* * *
Родившийся в Париже 6 июля 1934 года Никита Игоревич Кривошеин оказался в Советском Союзе в 1947-м, приехав со своими родителями на их родину, откуда они бежали после Октябрьской революции.
После Второй Мировой многие эмигранты поверили сталинскому прощению и дарованной Сталиным милости вернуть им гражданство.
Семья репатриантов Кривошеиных по возвращении была направлена в Ульяновск. Там Никита работал на заводе, одновременно учась в вечерней школе рабочей молодёжи, которую закончил.
Его отец Игорь Александрович Кривошеин, побывавший во время оккупации Франции в гитлеровских концлагерях Бухенвальде и Дахау, очень быстро заинтересовал компетентные органы, которые его арестовали и отправили отбывать наказание в ту самую шарашку в Марфине, где сидели Копелев, Солженицын, Панин. Копелев очень интересно рассказал о нём в книге «Утоли моя печали».
Никита же Кривошеин окончил Московский институт иностранных языков и в августе 1957 года был арестован за напечатанную во французской газете неподписанную статью о подавлении советскими войсками венгерского восстания.
Был в мордовских лагерях, где содержали политзаключённых.
Освободившись, прописался в калужском городке Малоярославце. Десять лет (1960 – 1970) работал письменным и синхронным переводчиком. Добивался разрешения выехать назад во Францию.
В 1971-м ему это разрешили.
С тех пор занимается переводами русской литературы на французский язык, печатает рассказы, статьи, публицистику во Франции и в России. Был активным автором сетевого «Ежедневного журнала», к которому сравнительно недавно власти очень усложнили доступ.
Стал одним из персонажей документального фильма в пяти сериях М. Демурова и В. Эпштейна «Не будем проклинать изгнание».
* * *
Столкнувшись в декабре 1825-го с бунтом, император Николай I, родившийся 6 июля 1796 года, остался навсегда им напуганным. Его цербер Бенкендорф озвучил для Пушкина, написавшего по просьбе Николая записку «о народном воспитании», мнение царя: «Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному».
Любопытная закономерность, правда? Как только самодержец или избранный президент поведут дело к самодержавию, они обязательно обрушатся на просвещение! Чувствуют, кто и что может помешать их планам!
Напомнив о том, что его брат и предшественник Александр I не дал крестьянам волю, Николай сказал: «Я тоже никогда на это не решусь […] в настоящую эпоху всякий помысел о том был бы не что иное, как преступное посягательство на общественное спокойствие и на благо государства».
Лицедей, он начертал на рапорте о тайном переходе двух евреев через реку Прут: «Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало и не мне её вводить!»
Наконец, его речь перед депутатами петербургского дворянства 21 марта 1848 года: «У меня полиции нет, я не люблю её: вы моя полиция. Каждый из вас мой управляющий и должен для спокойствия государства доводить до моего сведения все дурные действия и поступки, какие он заметит».
Так что совершенно справедливо и поделом П.А. Валуев, будущий глава правительства Александра II, в своей «Думе русского» обрисовал угрюмое казарменное николаевское правление: «Везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания […] Пренебрежение к каждому из нас в особенности и к человеческой личности вообще водворилось в законах […] Ограничением числа обучающихся в университетах стеснены пути к образованию. Узаконениями о службе гражданской сглажены, по мере возможности, все различия служебных достоинств, и все способности подведены под мерило срочных производств и награждений».
Как видите, история повторяется. И не по одному разу. И не обязательно как фарс!
О его смерти 2 марта 1855 года утверждают разное. Одни считают, что это была естественная смерть, другие, что он покончил самоубийством, проиграв крымскую кампанию.
* * *
С Василием Павловичем Аксёновым, умершим 6 июля 2009 года (родился 20 августа 1932-го), я познакомился в начале шестидесятых в «Юности». Он дружил с критиком Станиславом Рассадиным, который был и моим другом. Одно время они с Рассадиным были не разлей вода. Даже вместе писали от Васиного имени статью в «Правду», после того как Хрущёв на встрече с интеллигенцией обрушился на Аксёнова, заподозрив, что тот выступает мстителем за репрессированных родителей. «Правда» предоставила тогда возможность оправдаться обруганным Хрущёвым на той встрече писателям.
А потом Вася опубликовал в «Литературной газете» сатирический рассказ, герой которого был литературным критиком по фамилии Рассолов. И Рассадин с Аксёновым рассорились навсегда.
На наших с Васей отношениях их ссора не отразилась. Мы хорошо относились друг к другу. В то время Аксёнов был женат на Кире, родственнице моего старшего друга – Владимира Михайловича Померанцева, и мы встречались и у Владимира Михайловича, жившего у метро «Семёновская».
Ранние произведения Аксёнова «Коллеги», «Звёздный билет», «Апельсины из Морокко», «Пора, мой друг, пора» мне нравились. Конечно, в них был налёт ремаркизма, в чём упрекали Василия критики. Но Вася писал, не отступая от исторической правды: мы все тогда увлеклись освобождёнными от сталинских запретов и возвращёнными нам Ремарком и Хемингуэем. Так что это не Аксёнов подражал Ремарку, а его герои. Вася же зафиксировал в своих романах время.
Но потом большие вещи Аксёнова мне нравиться перестали. Началось это с «Затоваренной бочкотары» и продолжалось до самого отъезда Васи из СССР в 1980 году.
Ни «Ожог», который мне дал почитать сам Аксёнов, ни самиздатовский «Остров Крым» меня не увлекли. Ему я это не говорил, но мне кажется, что он это почувствовал. Однако на наших отношениях это не сказывалось.
Зато я очень любил его рассказы. «На полпути к луне», «Папа, сложи!», «Победа», «Местный хулиган Абрамашвили». Я носился с ними как с писанной торбой. Всем их рекомендовал. Хвалил их автору. И Вася чувствовал, что я не кривлю душой.
При мне в писательском доме творчества в Дубултах Гриша Поженян, Овидий Горчаков и Аксёнов сочиняли роман-пародию на западный боевик. Гриша и Вася приносили мне написанные главы. Я отнёсся к ним без восторга. Потом книга «Джин Грин – неприкасаемый» была напечатана под коллективным псевдонимом Гривадий (ГРИша+ ВАся+ овиДИЙ) Горпожакс (ГОРчаков+ПОЖенян+АКСёнов). Но я её целиком так и не прочёл.
Как известно, Аксёнов уехал в Америку в 1980 году после того, как выступил одним из редакторов-составителей неподцензурного альманаха «Метрополь». Позже Феликс Кузнецов, первый секретарь московской писательской организации и ретивый погромщик талантливых людей, утверждал, что Аксёнов сознательно спровоцировал скандал, который ему был выгоден на Западе. Это ложь. Вася был человеком добрым и бескорыстным. Никаких сценариев заранее не проигрывал. Его имя на Западе значило много и без «Метрополя». А его не опубликованные в СССР книги «Золотая наша Железка», «Ожог» и «Остров Крым» нашли своего издателя и читателя в Америке как раз тогда, когда он в неё приехал.
Там Аксёнов работал профессором русской литературы в разных университетах. Больше всего на последней своей работе в университете Джорджа Мейсона в Виргинии, где начал читать лекции за два года до возвращения ему советского гражданства и куда приезжал преподавать и после того как вернулся в СССР.
На Западе, кстати, он продолжал проявлять свою удивительную работоспособность. Написал пять или шесть романов. Рассказы. Кстати, выучил английский настолько, что смог писать и на нём. Его роман «Желток яйца» был первоначально написан по-английски. Вася потом перевёл его на русский.
Последним законченным романом Аксёнова стала «Таинственная страсть». Она издана с подзаголовком «Роман о шестидесятниках». Здесь Аксёнов поступил, как Катаев: укрыл под прозрачными псевдонимами легко узнаваемых мастеров литературы и культуры шестидесятых годов.
* * *
Лев Васильевич Пумпянский умер 6 июля 1940 года (родился 5 февраля 1981-го).
В 1918-1919 гг. жил в Невеле, преподавал литературу в Невельской единой трудовой школе и участвовал в деятельности Невельского философского кружка вместе с другими учёными М.М. Бахтиным и М.И. Каганом.
В 1921-1924 гг. преподавал литературу в Тенишевском училище Петербурга. Участвовал в работе сектора по изучению русской литературы XVIII века в ИРЛИ РАН (Пушкинском доме).
По делу религиозного кружка «Воскресенье» был арестован в 1928 году, но через непродолжительное время выпущен: компромата на Льва Васильевича следователи не нашли.
В 1934 году Пумпянский – профессор Ленинградской консерватории, а в 1936-м – профессор филологического факультета Ленинградского университета.
Был выдающимся исследователем литературы XVIII века и творчества её основателей – Ломоносова, Тредиаковского, Кантемира. Оставил замечательные труды по творчеству Пушкина, Лермонтова и Тютчева, по истории русского классицизма и сентиментализма.
Считается, что отдельные черты Пумпянского изображены в образе Тептелкина в романе К.К. Вагинова «Козлиная песнь» и в Пупочке – персонаже романа философа А.Ф. Лосева «Женщина-мыслитель».
Пумпянский оставил нам в своих записях лекции и выступления М.М. Бахтина 1924-1925 гг. Есть они в Интернете.
7 ИЮЛЯ
«Книга эта – попытка взглянуть на христианство глазами светского, нецерковного человека, найти такие слова и подходы, которые могли бы помочь взаимопониманию христиан и неверующих. Лишь позднее Желудков узнал, что он излагает те же идеи, что и некоторые теологи Запада, например Дитрих Бонхеффер («секулярное христианство») и Карл Ранер («анонимное христианство»). Со строго церковной точки зрения в книге С.[ергея] А.[лексеевича] есть немало спорных мест. Любой православный богослов мог бы многое возразить на его экспериментальное изложение христианства. Мне самому приходилось с ним много спорить. Но, думается, не правы те, кто считал его чуть ли не еретиком. Согласно православной традиции, еретик – это тот, кто сознательно и упорно противопоставляет свои взгляды церковному учению, принятому на Вселенских Соборах. У Желудкова такого намерения не было. Он лишь ставил вопросы, как бы приглашая собеседников и оппонентов к дискуссии. Не раз он говорил мне, что хочет «выбить искру», вызывая спор, подвергая сомнению устоявшееся и привычное. Умственные сомнения, поиск истины он не считал грехами при всей рискованности многих своих идей оставался христианином».
Так писал отец Александр Мень о книге отца Сергия Желудкова «Почему и я христианин».
Сергей Алексеевич Желудков родился 7 июля 1909 года. В 1928 году, окончив восемь классов, поступил в Духовную Академию – единственное религиозное учебное заведение, которое разрешили большевики. Разрешили, потому что эту школу открыли в 1923 году «обновленцы». Так называли тех священников, кто пошёл на сотрудничество с советской властью. Сперва они упразднили патриаршество за «монархический и контрреволюционный способ руководства Церковью», перешли на григорианский календарь и ввели институт белого (женатого) епископата. Но потом поумерили прыть. Поняв, что верующие не одобряют их реформы, «обновленцы» разрешили использовать как грегорианский, так и юлианский календари, отменили объявленные прежде реформы уклада церковной жизни. Однако демонстративно провозглашали свою лояльность новой власти, которая создавала видимость дискуссии с ними. В те годы многих привлекали диспуты между Луначарским и главой «обновленцев» Александром Введенским.
Желудков не окончил Академии. Но годы учёбы в ней были для него не вовсе бесполезны.
После войны, когда легализовалась Московская Патриархия, Желудков поступил псаломщиком в нижнетагильскую церковь. В мае 1946 года принял сан священника. Поступает и в 1954 году заканчивает ленинградскую духовную семинарию. Его постоянные перебрасывания из прихода в приход – в Челябинск, в Псков, в Тулу, в Смоленск – показывают, что церковные иерархи были раздражены свободомыслием иерея и искали повод освободиться от него.
Повод нашёлся: в 1959 году отец Сергий Желудков вступился за больную девушку, которая утверждала, что получила излечение после молитвы у гробницы блаженной Ксении. Слухи о чудесном её излечении распространялись с огромной скоростью. От девушки потребовали отречения. А отца Сергия уволили за штат.
Последние годы жизни Сергия Желудкова прошли в Пскове. Он сблизился с правозащитниками, переписывался с Солженицыным, Сахаровым, стал членом «Эмнисти интернэшнл».
А книга «Почему и я христианин» возникла на основе переписки Сергея Алексеевича со многими людьми, которых волновали вопросы, связанные с церковной жизнью, со службой священника и с его языком. Отец Сергий и отвечает на эти вопросы. Его книга стала апологетикой христианства.
Её с пользой для себя прочтут и неверующие. Тем более что отец Сергий Желудков писал в ней:
«Я могу уверенно заключить, что как ни мало сравнительно арифметическое число верующих христиан – принципиальное значение нашей интуиции Личности Христа, Вечного Человека, универсально. Последователи других религий полагают, что мы идеализировали Учителя Иисуса, приписали Ему Божественную Святость. Но они сами почитают Божественную Святость – ту самую, что мы увидели во Христе. И неверующие – не служители зла, а неверующие люди доброй воли, у них нет никакой реальной интуиции и, видит Бог, они в этом не виноваты; но есть у них, как это можно назвать, интуиция ДУХОВНОЙ КРАСОТЫ. Она направляет их лучшие поступки, во всяком случае – их стремления и оценки, – и это та самая, одна и та же, единственная, абсолютная КРАСОТА ПРЕСВЕТЛАЯ, которую явил нам Христос…»
Разумеется, в семидесятые годы, когда она была написана, нечего было и думать о публикации на родине. Книга была напечатана в Мюнхене. В России издана в 1995-м – через одиннадцать лет после кончины замечательного человека и священника, которая настала 30 января 1984 года.
* * *
Литературный критик Владимир Фёдорович Огнев, родившийся 7 июля 1923 года, в шестидесятых и в годы застоя считался человеком прогрессивных взглядов.
Моё знакомство с ним началось с 1963 года, когда я купил его небольшую «Книгу про стихи». Что ж. Дурных поэтов Огнев не хвалил. Хвалил хороших. Правда, о плохих он, как правило, и не писал, но я не сомневался, что их он не любит.
Потом, в «Литературной газете» состоялась и непосредственное наше знакомство. Огнев много писал о литературе стран так называемой народной демократии. Часто ездил туда в командировки от Союза писателей и от нашей газеты. Писал о литераторах из союзных советских республик – о Гамзатове, о Марцинкявичусе, о грузинских писателях.
Меня смущала близость Огнева к Георгию Мокеевичу Маркову – первому секретарю Союза писателей. Марков много способствовал заграничным командировкам Огнева, сделал его чуть ли не своим советникам по литературе стран народной демократии. И всячески поощрял. Хотя бы тем, что Огнев входил в правление большого Союза. А с 1991 года занял Владимир Фёдорович номенклатурный пост президента Литфонда СССР.
Литфонд в писательском фольклоре называли «лифондом» и расшифровывали как личный фонд секретарей Союза.
Дело в том, что был поставлен верхний предел на пособие, которое мог запросить у Литфонда нуждающийся писатель. Я никогда ничего у Литфонда не просил, поэтому боюсь соврать, но, кажется, что верхний был в 1500 или 2000 рублей. Такую сумму Литфонд мог выдать только на условиях займа. Безвозвратная ссуда, полагающаяся нуждающемуся писателю, была много меньше.
Так вот. Рассказывали, что каждый январь правление Литфонда рассматривало просьбу секретаря союза писателей (фамилию я знаю, но не назову, чтобы задним числом не обвинили в клевете) о выдаче ему предельной возвратной ссуды. Разумеется, ссуда ему выдавалась. А в декабре, подводя итоги года, правление снова возвращалось к выданной секретарю ссуде. Было у правления право списывать эти деньги в исключительных случаях. Исключения не прописывались, но понятно, что их легко придумать: тяжёлая болезнь или там какое-нибудь природное бедствие: пожар, например. Легко догадаться, что для секретаря исключение находили. Деньги он не возвращал.
Тот, кто читал «Шапку» Владимира Войновича, помнит об иерархии писателей, которые устанавливал литфонд. Это касалось любого вида обслуживания – от распределения путёвок до распределения дач.
Словом, пост, который занял Владимир Фёдорович, был внушительный и лакомый, после того как Союз писателей СССР приказал долго жить. Руководители Литфонда не церемонились: приватизировали и продавали на сторону былую общую писательскую собственность.
Так и получилось, что московские писатели остались без своей роскошной поликлиники, оборудованной новейшей медицинской техникой. Называли очень крупную сумму, которую поделили между собой после её продажи Владимир Огнев и главный врач поликлиники Евгений Нечаев.
Печально, конечно, но, кажется, что Владимир Фёдорович Огнев останется в истории литературы поступками, не имеющими никакого отношения к самой литературе.
* * *
В 1961 году в библиотеке, доставшейся жене от её родителей, я обнаружил небольшую книгу Лиона Фейхтвангера «Москва 1937», которая в то время была изъята из библиотек и переведена в спецхран, куда вход был по особым пропускам.
Позже я прочитал о судьбе этой книги, понравившейся Сталину. О том, как по приказу Сталина заведующий издательским сектором ЦК ВКП(б) Василий Сергеевич Молодцов обеспечил за одну ночь печать массового тиража книги Фейхтвангера. Позже она исчезла не оттого, что разонравилась Сталину. А потому, что сообщала о некоторых известных тогда фактах, какие Сталин предпочёл не вспоминать. О них уже не было дозволено знать советским гражданам. Например, о том, что Троцкий был организатором Красной армии.
Эренбург в своих воспоминаниях с каким-то мстительным удовлетворением написал, что Сталин легко обвёл вокруг пальца Фейхтвангера, считавшего себя опытным лисом. Я удивился стоявшему за этим подтексту самораскрытию: Эренбурга, стало быть, Сталин не провёл? Тогда вырисовывается не очень симпатичная фигура лакея, знавшего цену хозяину, но беспрекословно исполнявшего все хозяйские прихоти!
Возвращаюсь к моему первому чтению книги «Москва 1937». Истины она мне не открыла. Я читал ещё старшеклассником стенограммы процессов Бухарина, Рыкова и других, которые сохранял старший брат моего отца. Но личность Фейхтвангера, родившегося 7 июля 1884 года, мне пришлось переоценить. Его романы я прочёл недавно и видел за ними человека, который ищет в истории ответ на вопросы, поставленные перед ним его современностью. Но вот он сталкивается с самой современностью. Перед ним руководитель огромной страны, которую Фейхтвангер посещает во второй раз в момент, когда большинство из тех, с кем он встречался прежде, исчезли:
«Мы говорили со Сталиным о свободе печати, о демократии и об обожествлении его личности. В начале беседы он говорил общими фразами и прибегал к известным шаблонным оборотам партийного лексикона. Позднее я перестал чувствовать в нём партийного руководителя. Он предстал передо мной как индивидуальность. Не всегда соглашаясь со мной, он всё время оставался глубоким, умным, вдумчивым».
Но как же так! Если ты различаешь шаблонные обороты партийного лексикона, на котором и сам партийный вождь поначалу объяснялся, если, судя по всему, тебе они претят, то почему не задумываешься над тем, кто эти шаблоны внедрил и приказывает им следовать? А если понял, что для самого Сталина общие фразы и шаблонные обороты – маска, которую он при тебе же и снял, то отчего не различаешь его нехитрой двойной игры, его весьма примитивного актёрства? Поддался обаянию? Но историческому писателю такая эйфория не простительна.
Надо сказать, что книга «Москва 1937» сильно повлияла на моё дальнейшее отношение к Фейхтвангеру, умершему 21 декабря 1958 года.
8 ИЮЛЯ
Помню, вызывает меня Кривицкий, заместитель главного редактора. «Геннадий, – говорит, – нужны письма в поддержку присуждения Егору Исаеву ленинской премии. Набросайте три. Одно от имени студента, другое – от рабочего, а третье – вообще из какого-нибудь сибирского региона, подписанное несколькими читателями». Знал, конечно, Евгений Алексеевич, что были у нас в отделе подлинные письма о поэме Егора Исаева «Даль памяти», недоумевающие, возмущающиеся: за что выдвинули эту малограмотную поэму на ленинскую премию? Я сам их Кривицкому показывал. Усмехался в ответ Евгений Алексеевич: вот, дескать, показать бы их Егору, но не вздумайте, Геннадий, не надо! Знал Кривицкий, да и я знал, да и кто из окололитературной публики не знал, что продвигает Исаева сам Михаил Васильевич Зимянин, секретарь ЦК по идеологии. Егорушкой его называет, глазки сладко прикрывает, слушая исаевское чтение.
Три письма накануне созыва Комитета по премиям – такой заказ не оставляет сомнений: премию, стало быть, дают! «Дают! – подтверждает Кривицкий. – Действуйте!»
Или другое воспоминание. Я не помню – зачем, зашёл к поэту Николаю Старшинову, который живёт в писательском доме в Безбожном, рядом с моим – в Астраханском. У Коли включён телевизор, его жена Эмма смотрит программу «Время». Слышим – зовёт Эмма: «Смотрите!» Подходим: по случаю юбилея Егор Исаев удостоен звания героя соцтруда. А вот и он сам. Делится с интервьюершей фактами фронтовой биографии: «Сидим, бывало, с ребятами в землянке, байки травим…» На что Коля сказал: «Верный признак, что Егор не воевал. В землянках офицеры жили, а мы, солдаты, в окопах. Да и какая у Егора война? – он достал с полки тоненькую книжку – первый исаевский сборник стихов и показал мне аннотацию. – Видишь, что написано: «Служил в конвойных войсках в Австрии»?»
Да, и в самом деле – какая война была у Егора Александровича Исаева, умершего 8 июля 2013 года (родился 2 мая 1926-го)? С той войны у него две медали – «За оборону Москвы» и «За победу над Германией». Не густо. Потом уже много позже к юбилею Победы получил, как все фронтовики, орден Отечественной войны II степени…
Но любопытно, что начинал свою войну Егор в войсках НКВД (недаром он закончил её в конвойных войсках!). Первая же операция закончилась для него крайне неудачно. Он принял участие в депортации кавказского народа, но, конвоируя, оступился и упал в пропасть. Потом долго лежал в больнице перед тем, как уехать в Австрию.
Егор был на редкость малограмотным человеком и поэтом. Но его заприметил и стал продвигать Николай Васильевич Свиридов, работавший сперва в ЦК партии, а потом председателем Госкомпечати РСФСР. Убеждённому националисту Свиридову взгляды Исаева очень пришлись по душе, и он не только закрепил Егора на посту заведующего редакцией поэзии издательства «Советский писатель», но и поспособствовал тому, чтобы оброс Исаев необходимыми связями с влиятельнейшими людьми. Вот откуда знакомство Исаева с секретарём ЦК КПСС М. В. Зимяниным, который, как я уже говорил, расположился к Егору, пробил ему ленинскую премию, сделал секретарём большого Союза писателей. Хамоватый Егор никогда не отвечал по телефону на моё «здравствуй», всегда нукал после того, как я представлялся, так что, обнаружив это, я больше с ним не здоровался, а называя себя, немедленно переходил к делу. «Ну что, – лениво-небрежно спрашивал Исаев, – даёт «Литературка» на меня рецензию?» «Спроси об этом Кривицкого», – отвечал я. Свою маловразумительную поэму Егор печатал по частям и жаждал положительного отклика на каждую публикацию. Кривицкий его не разочаровывал. Тем более что, как все хамы, Егор был холуём сильных мира сего. А, как все холуи, набивал себе цену. В разговорах с нашим заместителем главного редактора намекал на связи с такими людьми (куда до них Зимянину!), от чего у Евгения Алексеевича Кривицкого перехватывало дыхание.
Большой кабинет Кривицкого располагался стенка в стенку с кабинетом Сырокомского. Егор однажды, попугав как всегда Евгения Алексеевича, перешёл к чтению отрывков из своей поэмы. Читал Егор долго и очень громко, подвывая в ударных местах. Я, придя к Кривицкому раньше Исаева, слушал чтение с тоской: оно затягивалось, а дело, по которому я зашёл, было срочным. Но распахнулась дверь кабинета – и Сырокомский резко оборвал чтеца: «Это ещё что за концерт в рабочее время?» «Читаю из новой поэмы, Виталий Александрович!» – умильно заулыбался Егор. «Так пригласите Кривицкого к себе домой или сами к нему приходите и там читайте, – жёстко сказал Сырокомский. – А здесь вы мешаете людям работать!»
Он повернулся и вышел, а съёжившийся Егор испуганно посмотрел на Кривицкого, тихо спросил: «Как ты думаешь, он не помешает рецензии?» «Думаю, нет», – ответил Евгений Алексеевич, а когда Исаев ушёл, в сердцах сказал мне: «Вот трепло!» Я понял, о чём он: если б Егор на самом деле тесно общался с теми, о ком он только что ему, Кривицкому, рассказывал, пугаться Сырокомского он бы не стал.
О дружбе Исаева со Свиридовым я узнал от Анатолия Передреева. Толя жил в Грозном, его жена Шема работала в вагон-ресторане фирменного поезда, на котором Передреев частенько приезжал в Москву. Здесь, в Москве, он довольно много печатался, здесь брал в издательствах подстрочники для переводов. Навсегда перебраться в Москву было заветной мечтой Толи и Шемы.
И Егор им помог. После того, как Передреев напечатал в кочетовском «Октябре» статью «Читая русских поэтов», где обругал стихотворение Пастернака «О, знал бы я, что так бывает…», – обрадовал русскую партию.
И Исаева, её активного члена, тоже. Встретив Передреева в издательстве «Советский писатель», он, зав отделом поэзии, зазвал Толю к себе в кабинет, долго дружески с ним беседовал, выведывал, не нуждается ли тот в чём-нибудь. И, узнав, что мечтает Толя о московской прописке, позвонил Свиридову, с которым говорил почтительно, но по-приятельски, посоветовав чиновнику ознакомиться с передреевской статьёй. «Он перезвонит», – сказал Передрееву Исаев после того, как положил трубку.
И действительно. Получаса не прошло, рассказывал мне Толя, как Свиридов позвонил и попросил Егора немедленно направить Передреева к нему.
Так что Егор Исаев имел, разумеется, мощную поддержку в среде партийной номенклатуры. Но хотелось помощнее. Хотелось, чтобы трепетали от одних только называемых им имён людей, с которыми он якобы запросто общается. И он блефовал. Как и в истории со своим участием в войне.
Забавна его судьба в постперестроечное время. Его огромная дача в Переделкине помогла ему обзавестись натуральным хозяйством. Он занялся разведением кур.
В здравом смысле ему не откажешь: понял, что литературой больше не прокормишься. Совсем было смирился с новым своим положением. Но забрезжила надежда на возвращение назад – и замелькал с подборками небольших стихотворений, разумеется, невероятно злободневных – на вечную ещё со сталинских времён тему.
Оцените:
Опять, опять сомноженные силы
Всем Западом придвинулись к России,
Грозятся с боевого рубежа.
Опомнись, ум, осторожись, душа!
«Сомноженные» и «осторожись» – это фирменные словечки поэта ещё той удостоенной ленинской премии поэмы «Даль памяти», в сюжет которой так никто и не смог проникнуть, чтобы понять, о чём она написана. Незадолго до смерти тоже написал какую-то поэму, за что немедленно получил ростовскую премию имени Шолохова. Благодарил губернатора. Умильно улыбался.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: