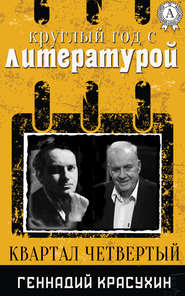скачать книгу бесплатно
До седых волос сыны сильны.
Знаю я, случись со мной такое,
Что и сердцу не стучать в груди,
Тёплой материнскою рукою
Подтолкнёт его. Шепнёт ему: «Иди!»
Снова всех дорог мне стало мало,
Снова уезжаю второпях,
Снова оставляю сердце, мама,
На твоих, любимая, руках.
Мне оно не нравилось, и я спорил с некоторыми своими коллегами, которые его защищали. Им понравился образ оставленного на родине сердца. А я доказывал, что этот образ возник вопреки нормам языка, который предписывает оставлять где-то частичку сердца, а не всё сердце целиком. А кроме того, стихотворение сентиментально, слащаво. Но сентиментальность взывает не к чувству, а к человеческому инстинкту.
С середины 80-х Сбитнев почти полностью переключился на историю России, Руси. Написал роман-дилогию «Великий князь» о князе Игоре Черниговском, павшем жертвой предательства в княжеских междуусобицах XII века и канонизированном православной церковью как мученик. За эту дилогию получил в 2009 году премию своего Союза писателей России «Александр Невский».
Чего действительно не отнимешь у Сбитнева – это его кропотливая дотошность, с какой он подходит к интересующему его предмету. Заинтересовался «Словом о полку Игореве» и стал изучать древнерусские говоры, чтобы понять язык произведения, написанного в XII веке.
Он издал в Чернигове в 2010 году книгу «Тайны родного Слова. Моё прикосновение к «Слову о полку Игореве», за которую получил от общественной организации орден «Служение искусству».
Любопытная книга. Кое-что в «Слове» Сбитнев прочитал заново и, должно быть, правильно. Какие-то тёмные места в памятнике разъяснил. Но меня удивил один апологет Сбитнева, пересказывающий его концепцию, которая высмеивает именование князя Олега, названного «почему-то по-хазарски каганом».
Но в написанном на век раньше «Слова о полку» «Слове о законе и благодати» митрополит Илларион именует князя именно каганом – верный признак того, что это заимствование из хазарского жило в языке того времени.
Другое дело, что по Сбитневу в подлиннике не «кАган», а «кОганя», которую он переводит как «кроха», «дитя».
Сбитнев приписывает авторство «Слова о полку Игореве» Болеславе, дочери великого князя киевского Святослава. Его расшифровка авторской подписи очень любопытна. Странно, что о ней, кажется, до сих пор не высказался ни один из авторитетных учёных, изучающих русскую древность!
* * *
В детстве мне очень нравилась книга Алексея Свирского «Рыжик». Трогательная история маленького оборвыша, которая заканчивалась необычно – смертью лучшего друга Рыжика, запомнилась надолго.
Это потом, прочитав автобиографическую книгу Свирского «История моей жизни», я понял, что автор – не просто дореволюционный писатель, как я решил поначалу, но что он пережил революцию и писал ещё и после неё.
Алексей Иванович Свирский родился 8 октября 1865 года. Как и его герой, он с детства стал беспризорником и начал бродяжничать по стране. Причём география его бродяжничества обширна. Он исходил всю Россию, побывал в Константинополе, в Персии, работал в Донбассе, на Волге, в Крыму, на Кавказе. Даже в Туркестане собирал хлопок.
Писать стал рано. Любимого моего «Рыжика» написал в 1901–1904 годах. А до этого написал рассказы и очерки о босяках, которые печатал в периодических изданиях и собрал в книги «Ростовские трущобы» (1893), «В стенах тюрьмы» (1894), «По тюрьмам и вертепам» (1895).
Конечно, на память сразу приходят «Петербургские трущобы» В. Крестовского. Да, Свирский продолжил его традицию. Он пишет рассказы и очерки о беспризорных детях, которые тоже собирает в трёхтомнике «Несчастные дети» (том первый – «Мир трущоб», том второй – «Мир тюрем», том третий – «Мир нищих и пропойц»).
Еврейские погромы, которые застал Свирский, стали толчком к написанию «Еврейских рассказов» (1909), «За чертой» (1912), «В дни бесправия» (1927), «Евреи» (1934).
После революции Свирский член объединения писателей «Кузница». Но его рассказы о послереволюционном быте неудачны. Похоже на тот случай, о котором мы говорим: автор одной книги. Свирский хорош там, где он пишет на совершенно определённую тему, связанную с бродяжничеством, с беспризорничеством, с тяжёлым бытом рабочего люда.
Умер 6 февраля 1942 года.
* * *
Андрея Донатовича Синявского (родился 8 октября 1925 года) я помню в основном по статьям и особенно по рецензиям в «Новом мире» А. Твардовского. Видел его несколько раз в ИМЛИ, но знакомы мы не были. Последней его работой, которую я прочитал до его ареста, была вступительная статья к стихотворениям Б. Пастернака, вышедшим в серии «Большая библиотека поэта».
А до этого читал ещё его книгу «Пикассо», написанную в соавторстве с И. Голомштоком, и написанную в соавторстве с А. Меньшутиным книгу «Поэзия первых лет революции. 1917–1920».
Потом я читал гнусные статьи Д. Ерёмина и З. Кедриной, которые навсегда закрепили за их авторами репутацию людей из КГБ, читал письмо 63 писателей, предложивших отдать им арестованных Синявского и Ю. Даниэля на поруки, читал злобную речь Шолохова, где он жалел, что с Синявским не расправились по законам революционного времени, то есть «не пустили в расход». Знал, что в день конституции 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади состоялся митинг, потребовавший гласного суда над Синявским и Даниэлем. Тогда же впервые услышал имя Александра Сергеевича Есенина-Вольпина, сына Сергея Есенина. Есенина-Вольпина и ещё несколько человек увезли с митинга на допрос работники госбезопасности. Но отпустили. Это был первый митинг на Пушкинской. В дальнейшем госбезопасность была не столь миролюбива.
А после прочитал я и Абрама Терца (Синявский) и Николая Аржака (Даниэль). Терц мне не понравился, а у Аржака понравилась только «Говорит Москва».
Впрочем, я говорю только о тех книгах, за что они были арестованы – Синявский и Даниэль. Не помню, входила ли в этот перечень работа Терца «Что такое социалистический реализм». Если входила, то извиняюсь – эта работа мне понравилась.
А послетюремные вещи Терца «Прогулки с Пушкиным», «В тени Гоголя» (об этой книге прекрасную работу «Письма из Мёртвого дома» написал самарский учёный В.Ш. Кривонос), «Спокойной ночи» меня равнодушным не оставили. Было смешно читать стенограмму пленума Союза писателей РСФСР, где все выступавшие облаивали Синявского (Терца) за его книгу «Прогулки с Пушкиным». Весёлая эта книга своим тоном у меня вызвала в памяти знаменитое определение Блока: «Весёлое имя Пушкин».
Стенограмма производила впечатление, что Синявского ненавидят не столько за Пушкина, сколько за то, что он выбрал для себя еврейский псевдоним. Кажется, что выступавшие намного чаще произносят «Абрам Терц», чем «Пушкин». Иногда автора называют: «Синявский-Терц», но в таком контексте, который свидетельствует, что речь идет о страшном предательстве веры человеком, перешедшим из православия в иудаизм.
Синявский останется в памяти (он умер 25 февраля 1997 года) весёлым человеком, умевшим подмечать смешные явления жизни, относившимся к советскому строю как к гротеску, как к общественному нонсенсу.
* * *
Жаль, что у нас почти неизвестна Екатерина Алексеевна Сысоева (родилась 8 октября 1829 года). Она – автор очаровательной книжки «История маленькой девочки», написанной по всей очевидности на автобиографическом материале. Кроме того, она создала несколько художественных биографий: «От бревенчатой хижины до Белого дома, жизнь Дж. Гарфильда», «Жизнь и подвиги Иннокентия, проповедника Евангелия на Алеутских островах», «Жизнь Гарриет Бичер Стоу».
С 1882 года она издавала детский журнал «Родник», пользующийся популярностью.
Она перевела роман Виктора Гюго «Девяносто третий год», повесть для детей Сесилии Джемисон «Леди Джейн», роман Ганса Кристиана Андерсена «Только скрипач».
А ещё она способствовала развитию просвещения в России. В её журнале «Воспитание и обучение» печатались лучшие педагоги того времени В.П. Авенариус, Н.И. Позняков, Д.Н. Кайгородов. Она перевела Г. Спенсера «Воспитание нравственное и физическое», Ч. Дарвина «Половой подбор», Э. Маха «О звуковых ощущениях».
Словом, много доброго сделала эта незаслуженно забытая ныне женщина, скончавшаяся 4 декабря 1893 года!
* * *
Эдуарда Владимировича Тополя (родился 8 октября 1938 года) я помню по публикации в «Юности». В 1978 году он эмигрировал в Америку.
Романы «Красная площадь» и «Журналист для Брежнева», написанные им в соавторстве с Фридрихом Незнанским, я прочитал уже в тамиздате.
Потом уже в 2004 году по «Красной площади» у нас сняли телесериал (8 серий).
Мне Тополь не представляется интересным детективщиком. А эротических его романов «Россия в постели», «Новая Россия в постели», «Невинная Настя» я не читал. Не тянет.
Вообще-то Тополь начинал как сценарист. И за сценарий фильма «Юнга Северного флота» в 1964 году получил «Алую гвоздику», которой ЦК комсомола отмечал лучший фильм года для детей и юношества.
Как сценарист он у нас и востребован. «У. Е.», «Ванечка», «Монтана», «Чужое лицо» – всё это снято для телевидения, для нашего ТВ, которое я давно уже не смотрю.
Удивило, что московское правительство в 2005 году (при Лужкове) наградило его премией «Вместе с Россией» – за развитие русского языка и литературы за рубежом.
И не удивил его приз международного кинофестиваля «Золотой Феникс» и призы Международного фестиваля «Волоколамский рубеж» за фильм «На краю стою»: сценарист он опытный.
* * *
«У этих фарсов кроме всех прочих достоинств есть ещё одно – они смешные», – писал о фарсах Генри Филдинга его исследователь Юрий Кагарлицкий. И добавлял: «Достоинство не из последних. Ибо фарс, как известно, был началом и первоосновой комедии».
С фарсов начинал великий английский писатель. Его «Авторский фарс», поставленный в марте 1730 года, прошёл только за один этот год 41 раз. Успех спектакля был таким мощным, что администрация театра вынуждена была для этого спектакля отпечатать билеты, продававшиеся заранее. Прежде театральная публика врывалась в зал и бежала по скамейкам без спинок к передним рядам. Билеты на Филдинга несли в себе новинку: места были пронумерованы.
Между тем, некоторые пьесы Филдинга вызвали жестокую критику правительства и, в частности, Канцлера казначейства сэра Роберта Уополла.
Уополл добился принятия закона о театральной цензуре 1737 года, который запретил сатиры на политические темы. В связи с этим Филдинг оставил театр, поступил учиться на адвоката и стал им в 1740 году.
Но писательство не забросил. Напечатал трагедию трагедий «Мальчик-с-пальчик», которая имела хороший тираж. Писал под псевдонимом «Капитан Геркулес уксус» статьи для периодических изданий тори – сатирические статьи, в которых выражал свои либеральные и антиякобинские взгляды.
В это время в Англии большим успехом пользовались романы Самюэла Ричардсона (помните, это был один из любимых писателей княжны Алины из пушкинского «Евгения Онегина»?). Филдинг относился к Ричардсону насмешливо, о чём говорит его роман «Шамела», выпущенный в 1741 году анонимно и представляющий собой пародию на роман Ричардсона «Памела».
Филдинг попробовал продолжить «Шамелу», написал роман «Джозеф Эндрюс» (1742) о брате Шамелы Джозефе. Но, как считают специалисты, отошёл в этой книге от жанра пародии, заложив основы собственного стиля.
Считается ещё, что до «Шамелы» и «Джозефа Эндрюса» Филдинг начал писать роман «История жизни покойного Джонатана Уайлда Великого», который опубликовал в 1743 году. В нём просматривается сатира на Канцлера казначейства Уополла. Во всяком случае сходство между Уополлом и разбойником, главарём банды Джонатана Уайлда несомненно. Так же, как несомненно сходство банды Уайлда с бандой Уополла – партией вигов, не названной, но легко обнаруживающей себя. Её главарь «Великий Человек» (так пресса называла Уополла) достигнет своего «величия», когда будет повешен за свои преступления.
Филдинг не забрасывает юридической карьеры. В 1745 году он назначен Главным судьёй Лондона. Вместе со своим младшим братом слепым от рождения Джоном он в 1749 году помог организовать подразделение ищеек с Боу-стрит, которое считается первым полицейским подразделением Лондона. Их с братом называют лучшими судьями Лондона в XVIII веке, много сделавшими для улучшения судебной системы и условий содержания заключённых. Да, не только Филдинг, но и слепой Джон, отличавшийся умением распознавать преступников по их голосам, совершенствовал судебную систему, когда сменил на посту Главного судьи Лондона своего брата, который занялся журналистикой и критикой собратьев-писателей.
К этому времени Филдинг уже опубликовал своё главное произведение «История Тома Джойса, найдёныша» (1749). Этот плутовской роман о герое, который достиг успеха благодаря своей неистребимой оптимистической вере в человеческое достоинство. Роман был подлинной новинкой для читателя, не привыкшего к авторской непредвзятости и к авторскому нежеланию маскировать собственные намерения. Вот, к примеру, одно из обращений Филдинга к читателю романа:
«…древние писатели имели большое преимущество перед нами. Мифология, в сказания которой народ веровал куда больше, чем верует теперь в догматы какой угодно религии, всегда давала им возможность выручить любимого героя. Боги всегда находились под рукой писателя, готовые исполнить малейшее его желание, и чем необыкновеннее была его выдумка, тем больше пленяла и восхищала она доверчивого читателя. Тогдашним писателям легче было перенести героя из страны в страну и даже переправить на тот свет и обратно, чем нынешним освободить его из тюрьмы.
Такую же помощь арабы и персы, сочиняя свои сказки, получали от гениев и фей, вера в которых у них зиждется на авторитете самого Корана. Но мы не располагаем подобными средствами. Нам приходится держаться естественных объяснений. Попробуем же сделать что можно для бедняги Джонса, не прибегая к помощи чудесного, хотя, надо сознаться, некий голос и шепчет мне на ухо, что он ещё не изведал самого худшего и что ужаснейшее известие еще ждёт его на нераскрытых листках книги судеб».
Разумеется, Филдинг нашёл, что можно сделать для своего героя, «не прибегая к помощи чудесного». Но сам по себе декларируемый писателем художественный приём приближал литературу к реализму.
Конечно, до него ещё было далеко, речь идёт о ростках, которые только-только пробивались на литературных страницах. Заколосились же они гораздо позже смерти Филдинга, случившейся 8 октября 1754 года. Писатель прожил 47 лет: родился 22 апреля 1707-го.
9 ОКТЯБРЯ
Михаил Алексеевич Варфоломеев (родился 9 октября 1947 года) описал свою жизнь в автобиографической повести «Круги». Он сменил много профессий: бурильщик, скотник, бетонщик, рабочий сцены, актёр, художественный руководитель театра в своём родном городе Черемхово Иркутской области. Первый рассказ опубликовал в газете в 1965 году.
Он был очень плодовитым драматургом. Написал более 60 пьес. Благодаря первой своей пьесе «Полынь – трава горькая» (1975), признанной на конкурсе лучшей пьесой о Великой Отечественной войне, стал известен. Его пьесы шли и, кажется, идут во многих театрах страны. Их ставили и за рубежом.
Более десятка фильмов сняты по его сценариям. Среди них «Полынь – трава горькая», «Бесы», «Миленький ты мой».
Плодовитый писатель написал около двухсот рассказов, десять повестей, романы «За стеклом» и «Без берегов». Печатался в основном в журнале «Москва», совпадая с православно-патриотической позицией этого журнала.
Был лауреатом премии имени Бунина за лучший рассказ, лауреатом всероссийского конкурса драматургов за пьесу «Поросёнок Кнок».
Мне он представляется подражателем своих именитых земляков Вампилова и Распутина.
Умер рано 26 мая 2001-го на 54-м году жизни.
В 2012 году в Черемхове ему установлен памятник.
* * *
Илья Янкелевич Габай (родился 9 октября 1935 года) свою правозащитную деятельность начал с первого же митинга брежневской поры на Пушкинской площади 1965 года. 21 января 1967 года участвовал в демонстрации, протестовавшей против ареста Ю. Галанскова, В. Лашковой, А. Добровольского. Через пять дней был арестован, заключён в Лефортовскую камеру, но через четыре месяца был отпущен «за отсутствием состава преступления». Вот какое было тогда время!
Но оно ужесточалось на глазах.
Габай стал активным правозащитником. Особенно много сделал для реабилитации крымско-татарского народа. Помогал Зампире Асановой, Ролану Кадыеву, Мустафе Джемилеву подготавливать документы, выступал в «Хронике текущих событий», работал над выпуском этого периодического издания самиздата.
В мае 1969 года по обвинению в клевете на советский строй был отправлен на следствие в Ташкент. Там был приговорён к 3 годам заключения. Отбывал наказание в лагере Кемеровской области, где написал поэму «Выбранные места».
В марте 1972 года его перевели в Москву для дачи показаний по делу о «Хронике текущих событий». В мае был освобожден.
Но с арестом П. Якира и В. Красина, давших показания против Габая и выступивших с покаянием по телевидению, над Габаем нависла новая угроза заключения. 20 октября 1972 года Илья Янкелевич выбросился с балкона одиннадцатого этажа. Некролог был опубликован в «Хронике текущих событий».
Его стихи опубликованы в книгах, вышедших в 90-е годы.
Эмигрировавшая на Запад вдова Габая Галина Габай-Фикен издала в Бостоне в 2011 году объёмный сборник «Горстка книг да дружества…», вобравший в себя всё творчество Ильи Габая.
А поэтом Габай был самобытным. Вот его стихотворение «Юдифь», написанное в 1963 году:
Изменами измены породив, плывут века
Но что Азефы? Хуже и памятней донос жены на мужа, поклёп сестры на брата, жесткий гриф безумной лжи, тупого простодушья. А ты у колыбели их, Юдифь!
Но что же натворила ты, Юдифь! Земля и небо, лебеди и гуси поют один, назойливый мотив: «Зачем ты это сделала, Юдифь?»
Зачем ты это сделала, Юдифь? Из злобы? Из коварства? Для идеи? Или для счастья робких иудеев, которые ликуют, не простив тебе своей трусливости, Юдифь?
Зачем ты это сделала, Юдифь? Чтобы оставить борозду в преданьях? Или чтоб стать праматерью предательств, воительною кровью напоив свою гордыню бабью, Иудифь?!
Зачем ты это сделала, Юдифь? По зову мод рядились наши жёны в доспехи непрощенья, в клики Жанны, зачем они родились, позабыв: они пришли в сей мир любить, Юдифь!
Зачем ты это сделала, Юдифь? Ведь если ты оглянешься, наверно, увидишь, как по трупам Олофернов толпа уродиц жадно лезет в миф, а ты была красавицей, Юдифь!..
Зачем ты это сделала, Юдифь? На мрачный подвиг от докуки зарясь? А может, восхищение и зависть в нас, неспособных к подвигам, вселив, ты нас звала к оружию, Юдифь?
Но мы не можем. Мы больны.
* * *
Мне понравилась «Повесть о рядовом Смородине, сержанте Власенко и о себе» Бориса Николаевича Никольского, которую опубликовал журнал «Юность» в 1962 году.
О своей биографии он написал сам:
«Я родился 9 октября 1931 года в Ленинграде. Во время войны был эвакуирован в Среднюю Азию, в августе 1944 года вернулся в Ленинград. В 1949 году окончил школу с золотой медалью и поступил в московский Литературный институт имени А.М. Горького. После окончания института в 1954 году был направлен на работу в молодёжную газету в г. Калинин (Тверь). В том же году в декабре был призван в армию, служил в Забайкальском военном округе рядовым солдатом, сержантом.
В конце 1956 года был уволен в запас и вернулся в Ленинград. Работал в журнале «Костёр», затем в «Авроре», избирался и работал секретарём правления Ленинградской писательской организации. С декабря 1984 года работаю главным редактором журнала «Нева».
Свой первый рассказ опубликовал ещё школьником в газете «Ленинские искры». Однако началом профессиональной литературной работы считаю 1962 год, когда в журнале «Юность» была напечатана моя «Повесть о рядовом Смородине, сержанте Власенко и о себе». В 1963–1964 гг. вышли мои первые книги – «Полоса препятствий» в издательстве «Детская литература» и «Триста дней ожидания» в «Молодой гвардии». С тех пор мною написано и выпущено более 20 книг.
В конце шестидесятых я начал работать над циклом небольших книжек для детей, посвящённых армии, таких, как «Кто охраняет небо», «Как прыгал с парашютом», «Что умеют танкисты», «Как живёт аэродром» и т. д. Впоследствии эти книжки выходили уже под одной обложкой под названиями «Солдатская школа» и «Армейская азбука». Именно эти книги вызвали огромную читательскую почту. Кроме того, для детей мною были написаны «Весёлые солдатские истории», «Приключения рядового Башмакова», «Три пишем, два – в уме» и другие.
Одновременно я работал над книгами, адресованными взрослому читателю. Так, у меня вышли сборники повестей «Баллада о далёком гарнизоне» (Лениздат, 1968 г.), «Рапорт» (Л. СП. 1978 г.), романы «Жду и надеюсь» (Лениздат, 1976 г.), «Белые шары, чёрные шары…» (Лениздат, 1980 г.), «Формула памяти» (Л. СП. 1982 г.), «Воскрешение из мёртвых» (Л. СП. 1990 г.), книга фантастики «Бунт» (Лениздат, 1987 г.) и другие.
В 1989 году я был избран народным депутатом СССР, до конца 1991 года работал в Верховном Совете СССР в качестве заместителя Председателя Комитета по вопросам гласности, принимал самое активное участие в подготовке первого Закона о печати.
Награждён двумя орденами: «Знак почета» и «Дружбы народов».
Я писал в журнале «Детская литература» о какой-то из книг Никольского. За неимением журнала, не помню, в каком году это было, и о каком произведении я писал. Но помню, что отзывался о произведении писателя на армейскую тему.
Впрочем, как понятно из его автобиографии, армейская тема была ведущей в творчестве Никольского.
После перестройки у себя в «Неве» он напечатал несколько интересных эпизодов о своей жизни.
Вот он вспоминает, как наконец-то цензура разрешила «Неве» напечатать солженицынский «Март семнадцатого» и как он, главный редактор, держит в руках сигнальный экземпляр номера с текстом Солженицына:
«Как обычно, я принялся листать номер – почти весь его объём занимал «Март Семнадцатого». И вдруг… У меня похолодели руки. Что такое?! Ещё не веря своим глазам, я снова принялся пролистывать номер. Так… так… «Март Семнадцатого»… «Март Семнадцатого»… И вдруг на очередном развороте публикация Солженицына неожиданно обрывается, и справа я читаю: «Хрен вы его найдёте», Олег Тарутин, фантастический рассказ… Дальше идут несколько страниц рассказа, а затем как ни в чем не бывало вновь продолжается «Март Семнадцатого»…