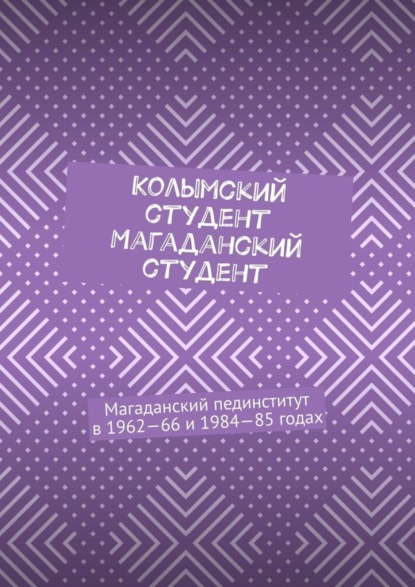
Полная версия:
Колымский студент. Магаданский студент. Магаданский пединститут в 1962—66 и 1984—85 годах
В течение месяца все наработались, напелись, натанцевались, перезнакомились, передружились, перевлюблялись и соскучились по городу и городской жизни.
Когда по ночам вода в лужах стала замерзать, а картошка была вся убрана, нам подали автобусы для возвращения в Магадан. Назад ехали без песен, склонив головы на плечи друг друга, – отсыпались после месячного недосыпа.
13. Вернулись
Первые два дня после возвращения отмывались и обстирывались.
По лестнице, которая вела с этажей к душевым комнатам, то и дело сновали краснолицые после бани девушки в халатах и с тюрбанами из полотенец, накрученных на головах.
На всех этажах пахло жареной картошкой, тушёным мясом из банок и жареным луком.
В коридорах из комнаты в комнату шло оживлённое движение.
Сдружившиеся на картошке студенты наносили визиты друг другу.
Из комнат через закрытые двери неслись громкие разговоры, смех, музыка.
Каждая мужская комната походила на маленький пивной бар: стол, уставленный пивными бутылками, стаканами, солёной рыбой в разных видах.
14. Группа №11
На третий день после нашего возвращения с сельхозработ начались занятия.
Факультет наш вначале, по первому курсу, был нацелен на три учительские профессии: истории, русского языка и литературы. Но это длилось только первый год. Со второго курса нас всех разделили на добровольных началах на «чистых» историков и таких же «чистых» филологов. Первые с четырёхлетним сроком обучения, а вторые с пятилетним. Я выбрал для себя историю.
Институтская кафедра истории состояла в основном из молодых преподавателей, приехавших по договору из Москвы. Руководил кафедрой кандидат исторических наук Владимир Иванович Балязин. С ним приехала из Москвы и вместе работала его жена, дочь известного в научных кругах профессора Павлова-Сильванского. Тоже кандидат наук. На этой же кафедре работала и Эльвира Константиновна Куртаева. Та самая, что приезжала к нам на прииск Большевик для организации первого набора в институт.
Я был зачислен в группу №11 истфака, где первая цифра означала «курс 1», а вторая – номер группы, то есть «группа 1».
Я отметил про себя, что на прииске мне довелось работать старателем 1-го звена 1-ой на Колыме старательской артели.
Теперь я на 1-м курсе в 1-ой группе 1-ого на Колыме вуза.
Если мне посчастливится его окончить, то я войду в число его 1-х выпускников.
Совсем недурно для внутреннего душевного престижа!
С хорошим настроением перешагнул я порог учебного корпуса.
И место в аудитории я выбрал за первым столом, вблизи от столика преподавателя.
Но меня преследовал какой-то рок.
15. Проблемы
В школе я тоже начинал свою учёбу, сидя на первой парте, а потом постепенно отсаживался всё дальше назад, и последние три года в школе я просидел на «камчатке», всегда у последнего окна.
Надо же, то же самое, но по другой уже причине произойдёт и в стенах вуза. Уже со второго семестра я стану отсаживаться вглубь аудитории, а со 2-го курса и вплоть до окончания учёбы прочно закреплюсь на той же «камчатке».
С первых же занятий я понял, что не смогу конспектировать лекции за преподавателями. Я писал медленно, традиционных сокращений в то время ещё не знал, плохо владел научной терминологией. Если же я переходил на убыстрённую запись, то проку от этого было мало. Меня хватало ненадолго, да и самому разобрать свои каракули было трудно. К тому же эстетики никакой, чего я не мог допустить. Всё, что я конспектировал в условиях читального зала, было всегда чётким, понятным, с выделениями и подчёркиваниями пастой разных цветов. Другой работы по конспектированию я не мог себе допустить. К тому же наша библиотека имела возможность обеспечивать нас учебниками по всем предметам.
Но не сразу я отказался от конспектирования.
Мною было предпринято несколько попыток изменить положение в лучшую сторону. Я взял в библиотеке самоучитель по стенографии и начал последовательно от задания к заданию осваивать этот вид скорописи. Но не дойдя ещё до средней скорости стенографирования, я «забуксовал» и не смог двигаться дальше. К моему огорчению, выяснилось, что я обладаю замедленным темпом мышления и стенография мне противопоказана.
После этого я перестал портить бумагу на лекциях, и сидел сложа руки, слушая преподавателя.
Очень скоро я стал замечать, что долго быть внимательным я не могу, что я являюсь обладателем рассеянной формы внимания. В роли активного слушателя я мог оставаться не более 15—20 минут, а после этого мои мысли переключались независимо от моего желания на посторонние раздумья. Я начинал барахтаться в гуще каких-то странных картин, образов, коротких и длинных монологов, фантастических сцен. В итоге ни одну лекционную тему я не усваивал.
16. Борода Маркса
И вот в этот период произошёл с виду незначительный эпизод на лекции у Балязина.
Лектором он был хорошим. Я любил слушать его, но это помогало мне недолго.
На одной из его лекций, в определённый уже момент, моё внимание переключилось с лекционного материала на большие портреты Карла Маркса и Фридриха Энгельса, которые висели над доской за спиной у преподавателя. Я сидел, всматриваясь в детали этих двух лиц, как тут Балязин спросил меня:
– Женя, почему вы ничего не записываете?
На это я тут же ему ответил:
– Я смотрю на портрет Маркса и думаю, почему у него борода седая, а усы чёрные.
В аудитории раздался смех.
Балязин стушевался, ничего мне на это не сказал и стал продолжать лекцию.
И хотя ничего оскорбительного я в своих мыслях не имел и сказал доверительно то, что было на самом деле, преподавательская среда мне этого не простит, сочтя мой ответ «циничным выпадом», а меня циником.
17. Внешнее
С того случая я стал чувствовать по отношению к себе повышенный интерес со стороны некоторых преподавателей. И интерес этот был с отрицательным знаком.
Новая среда, в которой я теперь вращался, оказалась очень чувствительной к соблюдению правил внешнего этикета, и обращаться с ней «запанибрата» было ни в коем случае нельзя. Я готовился перейти в неё из рядов рабочего класса, и она преподносила мне свои первые уроки.
Со временем я пойму её главный постулат. Он прост и не менее циничен, чем те слова, которые были мной сказаны Балязину:
Делай всё, что тебе хочется, но не попадайся! Тщательно скрывай всё негативное в своём поведении и характере. Но если ты всё-таки попадёшься на чём-нибудь, то мы (те, что делали то же самое, но не попались) осудим и накажем тебя.
Скорее всего, я бы не смог прижиться в этой среде, которая называлась «интеллигенция», если бы не те люди, которые увидели что-то во мне и взяли под свою защиту. Без этого пришлось бы мне возвращаться в ряды рабочего класса.
18. Художественная литература
Вернусь опять к учебным заботам.
Итак, конспектирование лекций за преподавателями во время занятий у меня не получилось. Слушать лекции со вниманием, чтобы запоминать их содержание, я не мог, из-за своего рассеянного внимания. Что же было делать?
Пойти на ещё один вариант. Многотрудный, лишающий тебя всякого свободного времени в течение всего дня и изматывающий физически. Но я не удержался и снял с него пробу, хотя заранее знал, что из этого ничего путного не получится.
Отсидев в аудитории три лекционные пары, я шёл в читальный зал, брал учебники и по ним составлял по сегодняшним темам свой конспект. Делал я это в соответствии со своими привычками – без спешки, выписывая текст аккуратными кругленькими буквами, подчёркивая отдельные слова и целые выражения пастой разной расцветки.
Всё было бы хорошо. На такую работу приятно было смотреть, и удобно работать с таким текстом. Но… каждый день я клал перед собой учебники по трём дисциплинам, а до вечера справлялся лишь с одним. На конспектирование двух других тем времени уже не оставалось. Так что в скором времени пришлось оставить эту затею.
И тогда вместо штудирования учебной литературы я перешёл к глобальному чтению художественно-исторической и научно-популярной литературы и исторических монографий. Глобальному в том смысле, что я стал читать всё своё свободное время и даже во время занятий. Для этого мне пришлось пересесть с первого стола и свить себе гнёздышко в последнем ряду аудитории. Преподаватель читает свою лекцию, а я ухожу полностью в себя и в те события, которые разворачивает передо мной та или иная книга.
Художественно-историческая литература давала мне живые картины исторического прошлого, помогала представить себе далёкие от нас времена в картинах и образах. Научно-популярная же литература снабжала меня богатым фактическим материалом, не востребованным учебной литературой. Всё это было как раз для меня, моего характера и моих возможностей.
Такую работу я полюбил и втянулся в неё, появляясь везде с небольшим чемоданчиком-балеткой в чёрном переплёте, доверху наполненным книгами. Весу же от этого в преподавательской среде у меня нисколько не прибавилось, а наоборот. Они видели, что я не записываю их лекции (игнорирует), а занимаюсь посторонним делом (наглец и циник). Никто не занимался выяснением подоплёки всего этого, но все сразу пришли к выводу, что это от лени и нежелания учиться. Поэтому меня просто перестали замечать и даже не отвечали кивком головы на моё приветствие. Одна лишь Кира Сергеевна Врублевская на моё «здравствуйте» отвечала сухо «добрый день». Но студенты уже знали её привычку – только тем, кого она уважала, отвечать с улыбкой «здравствуйте», а всем остальным говорить сухо, глядя себе под ноги, «добрый день». Для неё я был переведён из «здравствуйте» в разряд «доброго дня».
19. Учусь говорить
При моём тогдашнем косноязычии усиленное увлечение чтением стало оказывать мне добрую услугу. Оно воспитывало моё пульсирующее воображение, воздействовало на мои чувства, а через них и на мою речь.
Я стал готовиться к каждому семинару и не пропускал случая, когда бы я мог выступить с кафедры перед студенческой группой по тому или иному рассматриваемому вопросу. Это тоже возымело своё действие. От семестра к семестру, от курса к курсу я стал изъясняться по исторической тематике всё ясней и свободней, живей и интересней, тяготея всё больше и больше к «своему» языку, а не языку учебного пособия.
Но пока я только учился говорить.
Я ещё не умел, да и не смел прибегать к жестикуляции, использовать в речи логические паузы, модулировать голосом и настраивать невидимую связь со слушателями, переводя во время разговора свой взгляд попеременно с одного на другого, а не смотря в одну точку или в одно лицо. Плохо ещё у меня работали глаза и губы. Слабой была сила голоса. Он был тихий и глуховатый. Уже тогда я понимал, что выбрал своей профессией устное говорение, к которому был сам мало приспособлен природой.
Последующая практика показала, что, оказывается, можно говорить доходчиво и вразумительно и тихим голосом. Целых 30 лет мне придётся говорить изо дня в день, и всегда меня будут слушать люди, но мой тихий и глухой голос не станет между нами помехой.
Подтверждаю это выдержкой из статьи В. Данилушкина «Исторический класс», помещённой в газете «Магаданская правда», от 7 октября 1988 года.
«Не знаю, можно ли назвать Крашенинникова хорошим оратором.
Прежде всего, потому, что говорит он вполголоса.
Дети вслушиваются: им интересно.
Они тонко чувствуют импровизацию, уникальность ситуации.
За долгие годы он наработал свою методику».
20. Не выйдет никогда
Своё любимое чтение я откладывал в сторону только в двух случаях: во время сессии и во время нечастых капризов души.
В сессию я просиживал за учебной литературой и по ней сдавал все экзамены. Всё шло благополучно до тех пор, пока я не вышел на экзамен по истории СССР, который принимали супруги Балязины. По их лицам я сразу понял, что сейчас буду ими отомщён за седую бороду и чёрные усы Карла Маркса. Так оно и случилось.
Владимир Иванович сидел и молчал, а «размазывала» меня по реформам Петра Великого его жена. Она «высверливала» меня своим взглядом, она ловко опутала меня паутиной дополнительных вопросов. Она взяла на себя роль мстителя. Она не отпускала меня до тех пор, пока не добила вопросами о первой газете на Руси под названием «Ведомости», требуя от меня пересказать весь материал первого номера этой газеты.
Я хорошо видел, как она была довольна собой. Особенно в тот момент, когда ставила в мою зачётную книжку оценку 2 (неудовлетворительно). Пододвинув зачётку мужу для второй подписи, она откинулась на спинку стула, остывая от возбуждения и негодования. Владимир Иванович, расписавшись, наклонился в мою сторону всем своим телом и «добил» меня короткой фразой:
– Поверьте мне, Женя, из вас никогда не выйдет учителя. Добрый вам совет: забирайте, пока не поздно, свои документы и поищите себе другую профессию.
Приговор мне был вынесен. Направление дальнейшей жизни мне было указано.
21. У моря
Я вышел на улицу и остановился. Идти к людям не хотелось. Огляделся вокруг. С одной стороны закатная полоса над самым морем. С другой стороны, над сопкой, белое облачко над трубами ТЭЦ, что спряталась за этой сопкой. Стал спускаться к морю.
Узкие и пыльные нагаевские улочки, деревянные хатки, небольшая площадь в центре с клубом-кинотеатром «Моряк», почтовым отделением и продовольственным магазином. Дальше внизу территория морского рыбного порта с выходом к самой воде.
Шёл отлив. Белая ночь притушила огонь вечерней зари и остановилась на этом. Было тихо и безлюдно. Море отступало от берега медленно и беззвучно. Пахло обнажённым морским дном. У крутого берегового откоса сел на случайное бревно. С большим желанием закурил. На душе было как-то пусто, но не трагично. Сверху с откоса посыпалась галька. Засветилась огнями в Марчекане военно-морская база.
Снова сверху скатился камешек. Потом раздались звуки настраиваемого радиоприёмника. Шорох и треск сменился гитарными аккордами и словами. Кто-то там выше меня сидит и слушает романс. Скорее всего, это романс старинный:
Тени ночные плывут на просторе,Счастье и радость разлиты кругом.Звёзды на небе, звёзды на море,Звёзды и в сердце моём…Вслушиваюсь. Как успокоительно сказано: «Счастье и радость разлиты кругом…»
Звуки оборвались – и снова звуки настройки. Видимо, какая-то парочка устроилась на береговом откосе с приёмником в руках. Вот снова песня. Тоже не с самого начала:
Над рекою соннойШепчут ветви клёна.В этот миг для нас двоих листва шумит…Эту знаю наизусть и люблю. Слушаю и млею.
Так тихо и невнятно,Но сердцам понятноВсё, что тёплый вечер говорит…Потянулся за новой сигаретой. Что за сила такая отвернула меня от моего общежития и привела сюда? Привела да ещё песнями душу услаждает. Задумался и упустил начало новой песни. Песни мне незнакомой, но такой красивой, такой задушевной, какие редко встречаются.
Самое главное – сказку не спугнуть,Миру бескрайнему окна распахнуть.Мчится мой парусник, мчится мой парусник,Мчится мой парусник в сказочный путь…Кто тебя выдумал, звёздная страна?!Снится мне издавна, снится мне она.Выйду я из дому, выйду я из дому —Прямо за пристанью бьётся волна…Этого было достаточно для того, чтобы стряхнуть с себя грусть и отправиться дальше своей дорогой.
«Исчезнули при свете просвещенья наивные ребяческие сны».
Шёл 25-й год моей жизни.
22. Не пришёл
Вспоминая прошлое время и себя в нём, я могу считать, что природа наделила меня в меньшей степени рассудочным практицизмом, а в большей степени сиюминутным порывом, упрямством и самолюбием. Таким людям, как я, в практической жизни необходим наставник в лице человека более рассудочного и практичного, способного влиять на некоторые мои поступки. Такого наставника в своей жизни я до той поры не имел никогда. Ни в детстве, ни в юности, ни тогда, уже в зрелом возрасте. Поэтому мне приходилось временами очень нелегко.
Мой характер восстанавливал иногда против меня некоторых людей, которые становились моими недоброжелателями. На первом курсе таким недоброжелателем стала для меня куратор нашей группы Эльвира Константиновна Куртаева. Она была женой Лахина Льва Александровича, который был заведующим Отдела науки, школ и учебных заведений Обкома КПСС. На улице Портовой они имели вместительную «обкомовскую» квартиру. И вот в этой квартире Куртаева стала по субботам собирать нашу (свою) группу на так называемые посиделки.
Я не пошёл на первый такой «субботник». Причины сейчас не помню.
Комсорг нашей группы, Нина Куровская, передала мне новое приглашение Эльвиры Константиновны на вторые посиделки, которое я тоже проигнорировал. После этого в аудитории у меня состоялся разговор на эту тему с самой Куртаевой. Он закончился такими её словами:
– Женя, я лично приглашаю вас. Ваше присутствие у меня желательно во всех отношениях.
По её лицу, по глазам, интонации голоса и сказанным словам я понял своё назначение в её сценарии и уже сознательно не пошёл туда и в этот раз. Душа моя взъерошилась упрямством, и меня крепко заклинило на этом.
Через несколько дней Куртаева пришла в наше общежитие и зашла в нашу комнату. В ней никого, кроме меня, в этот момент не было. Я, лёжа на кровати, читал книгу. Мы сели для разговора по разные стороны стола. Говорила, в-основном, она. Чувствовалось, что это был не экспромт, а заготовка. Я сидел «закусив удила» и молча слушал. Сказав всё, что должно было приподнять её и оправдать, она, игриво улыбаясь, постучала пальчиком по столу:
– Если вы не придёте ко мне и в эту субботу, я навсегда вычеркну вас из списка своих потенциальных друзей. Не играйте с огнём, Женя!
Произнеси она только начало и остановись на этом – ещё неизвестно, как я бы поступил. Но её угроза «Не играйте с огнём, Женя!» сделала своё дело. Я не явился к ней и на этот раз. Этим я нажил себе врага, яростного и непримиримого на долгие годы, готового на всё ради мщения.
Другим моим врагом стала преподаватель исторического цикла по фамилии Цепляева. Стоило мне однажды в частном разговоре с однокурсниками отозваться нелестно о её манере поведения в аудитории на лекциях, как ей тут же об этом донесли, и новоиспечённый, беспощадный, мстительный враг у меня уже был готов. Теперь и всегда она не произнесёт обо мне никогда ничего положительного – только отрицательное.
Третьим моим врагом стал преподаватель-мужчина, секретарь парторганизации института доцент Юн. Случай столкнёт меня с ним в комнате нашего общежития. Я наотрез отказался выполнить его требование, так как считал его исполнение для себя неприемлемым. Отказался после первого и после второго к себе обращения. После этого ещё одним недоброжелателем у меня станет больше.
Я шёл на поводу у своего характера. Я шёл за ним во всех его желаниях и побуждениях. Ко мне никогда не приходила мысль о том, что надо во имя своего будущего вести себя осторожней, где-то приспособиться или чем-то поступиться. Мои поступки походили на поступки человека, который знает продолжение своей судьбы на много лет вперёд. Или, может быть, это было проявлением душевного фатализма с его постулатом: «Чему быть, того не миновать». А может быть, потому, что за моей спиной стояла моя прошлая «бульдозерная» жизнь. Но скорее всего потому, что такой уж уродился.
Всё то, о чём я сейчас рассказал, было только началом.
23. Почему?
В процессе моего дальнейшего студенчества мои дела временами принимали очень опасный оборот, опасней, чем месть Куртаевой, Цепляевой или Юна.
Ректору Михаилу Ивановичу Куликову положили на стол подготовленный и отпечатанный на машинке приказ о моём отчислении из института, но он в последний момент не подписал его.
Почему? Кто его знает. Может фатум такой.
Через год, уже следующий ректор, Вениамин Фёдорович Крюков, занёс было руку над новым приказом о моём отчислении (составленным уже по другому поводу), но отложил ручку в сторону и не стал его подписывать.
Я уцелел и в этот раз. Почему? Кто его знает.
На государственных выпускных экзаменах по педагогике члены экзаменационной комиссии собирались поставить мне оценку «2», после чего я остался бы в жутком положении, без диплома, но… не поставили, и я уцелел.
Почему? Теперь я знаю – почему.
Всякий раз, когда ко мне подбиралась беда, меня спасали и выручали люди.
Те люди, которые знали меня лучше других. Которые по чистой случайности оказывались в критические для меня моменты то рядом с Куликовым, то рядом с Крюковым, то рядом с членами экзаменационной комиссии.
Когда меня по ложному обвинению арестовали и посадили в милицейское КПЗ на улице Дзержинского, то народный судья Васильев собрался было меня примерно наказать, но рядом оказался тоже человек из тех, которые знали меня, и он тут же пришёл мне на помощь.
Когда, уже после окончания института, я проходил по конкурсу на должность ассистента кафедры истории МГПИ, то на Учёном Совете прямо с трибуны прозвучали удручающие обвинения в мой адрес с требованием не допускать подобного человека для работы на идеологической кафедре. И надо же такому случиться, что и на этот раз нашлись люди, которые вступились за меня и доказали всю беспочвенность таких глубоких обвинений в мой адрес.
В последующем изложении я подробней опишу все перечисленные мной случаи и назову имена этих людей.
24. Спокойная обстановка
Возвращаюсь к прерванной последовательности в своём изложении.
Я всё больше и больше втягивался в своё запойное чтение, завёл тетради и обозначил их значком «ВиК-1», «ВиК-2», «ВиК-3», что означало «Выписки из книг».
Мои устремления украшал афоризм, который я поместил на обложке одной из тетрадей. Он гласил: «Если ты хочешь учить других – учись же, не покладая рук, сам».
Для моего увлечения нужна была более-менее спокойная обстановка. Читальный зал был вечно переполнен, и я вынужден был заниматься своим делом чаще всего в условиях своей студенческой комнаты. А условия для такой работы там были мало пригодны.
Но фатум! Он был тут как тут, и скоро я перенёс свои вещи и переселился сам в другую комнату, где проживали только два студента-чукчи – Коля Келекут и Ваня Вуквукай.
У них пустовали две кровати. Никто не хотел их занимать.
Причины для этого были разные. Одна из них заключалась в том, что их попросту побаивались. Боялись тогда, когда они находились в состоянии опьянения. В такие моменты в них пробуждалось агрессивное начало.
Всех пугал взъерошенный вид Вани Вуквукая, который показывался в дверях своей комнаты и страшным голосом кричал в коридор:
– Всех пе-ре-ре-жу!!! Чукча всех резать будет!!! Как олешек. Чик – и готово!
Именно здесь я нашёл для себя тихую гавань, где мог, сколько хотел, заниматься своими делами. По разным причинам у меня с этими парнями сложились очень хорошие отношения, и то, что их комнату все обходили стороной, было мне на руку.
25. Детский сад
Другим тихим местом, где я мог бы в тишине и покое предаваться своим занятиям, было место моей новой работы в качестве сторожа детского садика.
Стипендия в двадцать два рубля не могла удовлетворить моих, даже самых скромных, потребностей. Поэтому из 50 месяцев студенческой жизни 35 месяцев я сочетал учёбу с работой.
Вначале я устроился сторожем-истопником в садик номер пять. Придя вечером на своё дежурство, я брал в руки топор-колун и во дворе у сарая долго рубил на дрова метровые чурки для кухонной печи. В пять часов утра я поднимался по будильнику, чтобы затопить печь, разогреть её, как следует, и вскипятить все поставленные на неё ещё с вечера котлы с водой. Приходила дежурная повариха, я сдавал ей свой пост и мог идти на занятия. Следующее дежурство было через день. Садик выплачивал мне за это сумму размером в три мои стипендии и кормил обедами и ужинами.
Всё это меня вполне устраивало. Однако, когда впоследствии у меня представится возможность перейти в другой садик, с электрической кухонной печью, где не надо было рубить дрова, вставать в пять утра для кипячения воды в котлах, я перейду туда. Это был садик на улице Портовой.
Здесь я получил вдвое больше свободного времени для своих дел, да и утром мне требовалось только включить рубильник электропечи в шесть утра, чтобы к семи часам вода в котлах бурлила уже ключом.
Был у меня недолгий период, когда я в свободные от дежурства в садике №16 дни устроился дежурить ещё в один садик, под номером 21, что на улице Транспортной у городского рынка. Весь этот период я не ночевал в общежитии ни одной ночи, получал два оклада и двойное питание. Используя своё вечернее уединение, я перечитал большое количество книг по истории, философии, политэкономии, истории искусств. Лёжа на матраце у кухонной печи, я перечитал все 13 томов произведений Маяковского и стал с этих пор почитателем его творчества.



