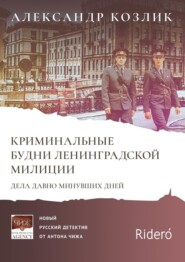
Полная версия:
Криминальные будни Ленинградской милиции. Дела давно минувших дней
На дворе был сентябрь 1987 года. Ученики ПТУ (профессионально-технического училища) Олег Гончаренко и Максим Достоевский уже второй час без дела бродили по Невскому проспекту. Пойти куда-либо развлекаться не было денег, и в ближайшем будущем они никак появиться не могли, а развлечься очень и очень хотелось.
– Может, тормознем кого-нибудь? – спросил Максим у Олега.
– А кого? – осторожно поинтересовался тот, – смотри, сколько ментов по Невскому бродит. Сразу же застукают.
– Ну, надо подумать, чтобы не застукали, – ответил Максим.
Олег задумался и через некоторое время произнес:
– Слушай, я тут на днях познакомился с одним кентом. Он ходит в загранку.
– И что?
– А то, что он предложил мне купить чеки.
– Что за чеки? – не понял Максим.
– Ну ты что, не знаешь? Чеки Внешторгбанка. – удивился Гончаренко. – На них в «Березке» можно отовариться. 4
– Ну, а кто тебя в «Березку» пустит, – ухмыльнулся Максим, – там мент стоит.
– Будут чеки, что-нибудь придумаем, – уверил его Гончаренко. – Хотя бы, на крайний случай, попросим кого-то из посетителей нам на эти чеки что-нибудь купить.
– Ну а как мы эти чеки-то заберем?
– Как заберем? – почесал затылок Олег. – Давай подумаем.
Парни задумались. Идея ограбить знакомого понравилась обоим. Олег и Максим решили заманить его в парадную дома под предлогом покупки чеков, а там разыграть нападение. Но для этого необходимо было привлечь к нападению еще как минимум троих.
Долго не думая, они обратились к своим знакомым Дмитрию Кудрявцеву, Михаилу Матросову и Сергею Алтухову с предложением помочь им «обуть» наивного мужичка. Тем идея понравилась, и они согласились.
Через несколько дней Олег Гончаренко позвонил своему знакомому Владимиру Звонареву и заявил, что есть парень, который хочет купить чеки. Договорились встретиться вечером у метро «Площадь Восстания». На встречу поехали впятером.
Выйдя из метро, Олег и Максим отошли в сторону и стали ждать Владимира. Кудрявцев, Матросов и Алтухов остановились невдалеке, чтобы можно было за ними наблюдать. Около 19 часов приехал Владимир Звонарев, Олег познакомил его с Максимом и предложил пройти в какую-либо из ближайших парадных, чтобы там совершить сделку. За ними незаметно направились и все остальные. Гончаренко, Достоевский и Звонарев зашли в парадную дома 2 по улице Восстания, и там Звонарев предложил Достоевскому купить75 чеков за 975 рублей. Достоевский стал с ним торговаться, и в это время в парадную вошли Кудрявцев, Матросов и Алтухов. Они подошли к Достоевскому со Звонаревым и попросили закурить. Звонарев, сразу же заподозрив, что их хотят грабить, рванул на выход. Но его перехватил Кудрявцев. Завязалась драка. Гончаренко и Достоевский упали, притворившись, что потеряли сознание, и тогда все трое набросились на Звонарева. Стащили с него куртку и джемпер, выскочили из парадной и убежали. Следом за ними вышел Звонарев, но тех уже и след простыл. Подождав немного, из парадной появились Гончаренко с Достоевским. Смеясь и весело переговариваясь, они направились к месту сбора. Там их уже ждали Кудрявцев, Матросов и Алтухов. Осмотрели куртку, но чеков не нашли. Гончаренко пошел звонить Звонареву – и от него узнал, что чеки были в рукаве куртки, пожаловался, что их тоже сильно избили, и вернулся к своей компании. Решили вернуться на место преступления, в парадную, но там чеков не нашли. Тогда куртку забрал себе Олег Гончаренко, а джемпер остался у Матросова.
Кому-то из жителей данной парадной видимо крупно повезло, и честностью он явно не отличался.
Звонареву сломали нос, он вынужден был обратиться в травмпункт. Оттуда пришла телефонограмма в отдел милиции о совершенном разбойном нападении. Сам Звонарев обращаться в милицию не очень хотел, так как продажа чеков в то время преследовалась по закону, его могли привлечь к уголовной ответственности за спекуляцию. Он мог потерять работу.
Телефонограмма о совершенном разбойном нападении поступила в 78-й отдел милиции, и поручили ее проверить оперативнику Николаю Самошенкову. Такие телефонограммы всегда вызывали изжогу у начальства, так как в подобном случае явно светил «глухарь», а спрятать такое преступление было чревато последствиями: при проверке прокуратура всегда запрашивала копии телефонограмм в травмпункте. Чтобы побыстрей разобраться, что за этим стоит, Николай поехал домой к Звонареву.
Владимир Звонарев особой радости при виде оперативника не испытал, из чего Николай сделал вывод, что с делом не все чисто. Вначале Звонарев ничего не сказал про чеки, но рядом стоял его отец и о пропаже этих чеков ему напомнил. Пришлось сказать, что в момент встречи чеки у Владимира были с собой, но продавать их он не собирался. Про своего знакомого Владимир знал только, что тот учится в каком-то ПТУ на электрика, второго фигуранта он совсем не знал. Поведение обоих во время нападения вызвало у него подозрение, потому что сопротивления они почти не оказали, хотя силы были равные.
ПТУ в городе было много, но таких, где обучают профессии электрика, единицы.
На следующий день Николай пригласил Звонарева в управление и отвел к экспертам, у которых были составлены фотороботы на его знакомых Олега и Максима. Получив фотографии обоих, Николай направился в странствия по городским ПТУ. Только в третьем ему повезло, директор опознал обоих: Олега Гончаренко и Максима Достоевского. Благо сомневаться особо не приходилось, так как имена свои они не скрывали.
Когда обоих вызвали в кабинет к директору, Николай предложил проехать с ним в отдел милиции. Ребята оба побледнели, но делать было нечего, пошли одеваться. Тут Николай сразу же понял, что дело можно считать раскрытым: на Олеге была похищенная куртка.
Расследование данного уголовного дела не составило особого труда. Звонарев опознал обоих, а те сдали своих подельников, при этом каждый старался перевести стрелки на другого. Изъятая куртка и джемпер объективно подтверждали участие в разбойном нападении, а роль каждого из них была четко определена в очных ставках между всеми участниками.
Суд, учитывая молодость преступников (всем им было по 18 лет), определил условную меру наказания.
Уголовное дело №19152: Валютчик
И такие дела были в августе 1987 года.
Вечер в ресторане «Баку», находившемся по адресу: улица Садовая, дом 12/23, подходил к концу. Однако группа финнов и не думала останавливаться. Находясь в Советском Союзе, они отводили душу: у них в стране был «сухой закон», поэтому здесь они себе ни в чем не отказывали. Официанта Сергея Карлова это очень радовало, потому что он предвкушал хорошие чаевые. А тут еще поступил заказ на 400 грамм водки и 2 пепси-колы. Сергей быстро поднес, что просили финны, и решил, что они достаточно «созрели», чтобы их можно было и обмануть. Когда попросили принести счет, Сергей особенно не задумывался и увеличил счет в два раза. Посмотрев на него, финн сказал, что у него русских денег не хватает, но есть 200 финских марок и он готов дать их официанту, оценив в 100 рублей. Жадность получения такого навара привела к тому, что Сергей совсем потерял бдительность и не обратил внимания на сидящих рядом троих парней, которые распивали пепси-колу и внимательно за ним наблюдали. Валюту у иностранцев официанты брали, но только тогда, когда были уверены, что за ними никто не наблюдает. В то время на территории Советского Союза действовал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 ноября 1976 года «О сделках с валютными ценностями на территории СССР», который запрещал использовать иностранную валюту как средство платежа или ее покупку.
Финн и Сергей вышли в коридор, ведущий на кухню, где Сергей получил 200 марок и отдал 80 рублей финну в виде сдачи, получив с него, таким образом, 20 рублей, вместо положенных 9 рублей 76 копеек. Ну, а когда оба вернулись в зал, то были задержаны молодыми парнями, сидевшими рядом и предъявившими удостоверения работников ОБХСС.
Подсчет заказа выявил обсчет покупателей, также налицо было нарушение правил о валютных операциях.
Сергей был привлечен к уголовной ответственности по ст. 156 ч. 1 УК РСФСР, то есть за обсчет покупателей на предприятии общественного питания, и по ст. 88 ч. 1 УК РСФСР, за нарушение правил о валютных операциях.
Уголовное дело №18385: Обман покупателей
Система общепита в Советском Союзе вызывала много вопросов у граждан. В эту систему входили рестораны, кафе и столовые. Так как все эти предприятия были государственными, то воровать всем работникам было не стыдно. Государство ведь богатое, не обеднеет. Хотя впоследствии оказалось, что и государство обеднеть может: смотря как и сколько воровать.
Заведующая столовой №17 Куйбышевского треста столовых Римма Ивановна Гаврилова расположилась в своем кабинете и подсчитывала барыши за вчерашний день. На дворе был сентябрь 1986 года. Самый сезон овощей и фруктов, а следовательно, есть на чем заработать: поступило 1330 кг помидоров. Их продали с наценкой 17%, хотя реализовывались эти помидоры с лотка, а не в буфете, где разрешено было устанавливать эту наценку за обработку овощей и фруктов, да еще и накинули по 10 копеек за килограмм: вместо 50 копеек брали 60 копеек. В карман получилось 119 рублей 74 копейки. Таким же образом продали 350 кг перцев – заработали 31 рубль 64 копейки. Лук, сливы, огурцы, виноград, арбузы – все пошло в ход через лотки, с наценкой по буфету и обманом покупателей на копейки. Но не зря говорили, что копейка рубль бережет. Всего получилось за вчерашний день 315 рублей 55 копеек. Трудно себе представить эти деньги в настоящее время, однако прикинуть можно из того расчета, что 120 рублей – это средняя месячная зарплата по стране.
Но перед Риммой Ивановной стояла другая задача: как сейчас распределить эти деньги. Часть предстояло выплатить буфетчице, которая торговала овощами и фруктами на лотке, часть надо отдать на базу поставщику, чтобы не забывал привозить овощи и фрукты, часть занести руководству, чтобы не заглядывало лишний раз в столовую с контрольной проверкой, да и себя, любимую, не забыть. Только бы ОБХСС не нагрянуло! Замечталась Римма Ивановна, а как бы хорошо было, если бы и им «отстегнуть» можно было: работай тогда спокойно и только правильно распределяй. Невдомек ей, конечно, было то, что мечты эти исполнятся через каких-то 20 лет…
Тяжело вздохнула Римма Ивановна и позвала в кабинет буфетчицу. Но только та зашла, как следом за ней и сотрудники ОБХСС. «Накликала себе беду», – подумала Римма Ивановна. На столе и черновик со всеми расчетами, и деньги отложенные, все как в бухгалтерии, даже считать не надо.
Тут же изъяли все накладные. Свидетелей еще вчера опросили при выходе из столовой, все их показания зафиксировали.
Обвинительное заключение звучало таким образом: «Гаврилова Римма Ивановна, работая заведующей столовой №17 Куйбышевского треста столовых, в сентябре 1986 года с целью совершения хищения государственных средств и обмана покупателей, путем превышения цен, установленных на предприятиях общественного питания, вступила в преступный сговор с буфетчицей этой же столовой Натальей Витальевной Федоровой, и совместно они принялись реализовывать необработанные овощи и фрукты через буфет с наценкой. Кроме того, они завышали цены на некоторые виды овощей и фруктов, а по документам оформляли их как реализованные по розничным ценам. Полученные в результате обмана покупателей денежные средства ими присваивались.
Суд определил признать Гаврилову Римму Ивановну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК РСФСР, и назначить ей наказание в виде 3 лет лишения свободы без конфискации имущества, с лишением права занимать в торговых предприятиях и предприятиях общественного питания должности, связанные с распоряжением, хранением, учетом материальных ценностей и денежных средств, сроком на 5 лет. В соответствии со ст. 46—1 УК РСФСР отсрочить исполнение приговора в части основного наказания в виде лишения свободы на срок 2 года.
В соответствии со ст. 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18.06.1987 года «Об амнистии в связи с 70-летием Великой Октябрьской социалистической революции» освободить осужденную от наказания в виде лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора».
Уголовное дело №68133: Профсоюзные расхитители
Еще одно лакомое местечко для любителей осваивать общественные средства – это профсоюзы. Так уж сложилось в Советском Союзе, что профсоюзы не имели никакого веса в общественном движении, были они полностью под руководством правящей верхушки любого предприятия и слепо выполняли все ее указания. Зато себя, родимых, они не забывали: путевки в санатории, дома отдыха, туристические маршруты, материальная помощь в денежном выражении были у них в полном распоряжении, естественно, с благосклонного согласия руководства. Но иногда и этого было мало.
В ОБХСС Куйбышевского района города Ленинграда в марте 1987 года поступила анонимка: «Уважаемые сотрудники! Руководство профсоюза „Трудпрома“ наживается на путевках, которые предназначены для членов профсоюза. Они продают путевки на сторону, а деньги кладут себе в карман. Проверить и убедиться в этом легко, надо выяснить, кто ездил по этим путевкам и кому платили деньги. Своего имени назвать не могу, иначе потеряю работу. С уважением, Доброжелатель».
Система доносительства в СССР была развита довольно успешно еще с 30-х годов прошлого века. Хотя, если задуматься, то и в царской России, и в европейских странах она тоже существовала и существует поныне. Из-за этих доносов пострадали многие семьи. Если неугоден был начальник или, к примеру, понравилась комната соседа, достаточно было написать в НКВД – и люди исчезали. В конце 80-х годов, с приходом гласности, решили так – с анонимками пора заканчивать. Руководством страны было принято соответствующее постановление – и анонимки теперь можно было списывать без проверки. Но бывали такие анонимки, которые сразу привлекали внимание сотрудников правоохранительных органов, и их все-таки проверяли.
Начальника одного из отделов по борьбе с расхитителями социалистической собственности Николая Ивановича Школьника данная анонимка заинтересовала: если все, о чем в ней говорилось, подтвердится, то работа предстояла не очень сложная, и «палку» можно срубить, поскольку показатели отдела по выявлению хищений государственного имущества не соответствовали требованиям.
Николай Иванович вызвал к себе следователя Алексея Косарева, велел во всем тщательно разобраться и напомнил, что в этом квартале он еще ничего не раскрыл. Это так, на всякий случай…
Алексей парень был толковый, если что нащупает, то вцепится, как бульдог, и всю цепочку раскрутит.
Прочитал Алексей анонимку и решил начать с Центрального Профсоюза, благо у него был там знакомый. Только недавно вместе ревизию проводили. «Трудпром» представлял собой организацию, где работали гардеробщики, уборщики и прочий обслуживающий персонал. Среди сотрудников было много пенсионеров, и, скорее всего, анонимка была написана одним из них. Алексей приехал к своему знакомому (тот был начальником ревизионного отдела) и объяснил стоящую перед ним задачу. Начальник ревизионного отдела полистал свои «талмуды» и предложил включить «Трудпром» в плановую проверку, «а ты присоединяйся и по ходу все посмотришь». На том и порешили.
В понедельник нагрянула ревизия в «Трудпром». Все сразу всполошились: неожиданно, без предупреждения – значит что-то серьезное. Подняли документы по профсоюзу за последние три года, и Алексей Косарев приступил к работе. Списки всех, кто получил путевки, были предоставлены, и Алексей стал их вызывать и опрашивать. Взял на проверку документацию по туристическому маршруту «Ереван» с 19 по 22 декабря 1985 года. И тут же стало понятно, что рабочие, на которых были выписаны путевки, их не получали и даже не знали, что они ездили по туристической путевке в Ереван. Заявления были написаны от их имени, но почерк ни одного из них совершено не совпадал. Косарев запросил документы в туристическом бюро, и выяснилось, что по данным путевкам ездили отдыхать совсем другие люди. Путевки они купили у заместителя председателя профкома Тамары Ивановны Стройновой и заплатили 50% их стоимости – 60 рублей. Но в кассу за каждую из путевок было внесено только по 36 рублей.
По маршруту «Брест» с 6 по 10 декабря 1985 года две путевки были реализованы некоему Киселеву. И еще по одной – Бойцовой и Туркиной, все по 30% стоимости, вместо оплаты одной по 50% стоимости, а две другие – по полной стоимости. Всего ущерб по данному маршруту составил 172 рубля 50 копеек. И так далее по другим маршрутам.
Проведенная ревизия показала, что за 1984 год было реализовано 49 путевок работникам «Трудпрома» с ущербом для комбината в размере 1876 рублей 70 копеек и не работающим на комбинате – 142 путевки на сумму 10 654 рубля, а всего ущерб за 1984 год составил 12 530 рублей 70 копеек.
За 1985 год всего было реализовано 173 путевки, работающим на комбинате – 59 штук, ущерб по ним составил 1630 рублей 50 копеек. Не работающим на комбинате – 114 путевок, и ущерб по ним составил 9763 рубля 10 копеек.
Тамарой Стройновой лично были подписаны фиктивные протоколы заседаний профкома, на основании которых были выданы путевки и причинен ущерб комбинату за 1984—1985 годы на сумму 16 227 рублей, а членом профкома Комаровой – на сумму 2340 рублей 50 копеек.
Как установило следствие, возглавляла группу расхитителей заместитель председателя профкома Тамара Ивановна Стройнова, которая стала распространять туристические путевки, закупленные комбинатом по фонду социальных культурных мероприятий. Реализовывали путевки по 50% стоимости как членам профсоюза работников комбината, но оформляли по 30% стоимости, а 20% присваивали. Некоторые путевки вообще оформлялись как бесплатные, и в этом случае присваивалась, соответственно, вся сумма. Документы оформлялись на работников комбината, составляли от их имени заявления, а также фиктивные выписки из протоколов заседаний профкома о предоставлении путевки. В оформлении документов принимала участие член профкома Елена Ефимовна Комарова. Хищение осуществлялось под покровительством и с ведома председателя профкома Соловьевой, директора комбината Аксакова, заместителя директора Бобровой.
Материалы проверки были переданы в следствие, возбуждено уголовное дело по ст. 92 ч. 2 УК РСФСР (хищение государственного имущества).
Тамара Ивановна Стройнова была привлечена к уголовной ответственности по трем статьям Уголовного кодекса: хищение государственного имущества, злоупотребление служебным положением и должностной подлог. Наряду с ней были привлечены к уголовной ответственности председатель профкома Соловьева, директор комбината Аксаков, заместитель директора Боброва и член профкома Комарова.
Куйбышевским районным народным судом Ленинграда все лица были осуждены к различным мерам наказания: от лишения свободы до передачи материалов дела на рассмотрение товарищеского суда (была такая мера наказания), в зависимости от того, кто и что натворил.
Уголовное дело №18882: Похититель шкурок
Фабрика №2 объединения «Рот Фронт» была расположена по адресу: улица Думская, дом 9. На фабрике делали меховые шапки, заготовки велюра и другие головные уборы. Старший мастер участка по изготовлению мужских головных уборов Лидия Михайловна Ловилова ежедневно обходила рабочих в цехе и тщательно следила за тем, чтобы скрой на меховые шапки был вплотную к лекалам, хотя имелся дополнительный допуск. Рабочих это раздражало, так как впоследствии им предъявляли претензии, что шапки получаются меньшего размера. И никто не понимал, зачем это надо было Лидии Михайловне.
В конце концов директору фабрики Ларисе Сергеевне Тихомировой стали регулярно сообщать из ОТК (отдел технического контроля) о том, что на участке №4 выявляются нарушения при кройке шкурок. Тогда она приняла решение провести внезапную проверку. Проверка установила, что имеются нарушения почти по каждой шапке. Комиссия решила проверить шкафчики, где переодеваются рабочие, и обнаружила у старшего мастера Ловиловой пластину шкурки и небольшие куски меха, которые обычно сдаются в утиль.
Это было ЧП для фабрики. Директор тут же пригласила к себе секретаря парткома Надежду Дмитриевну Николаеву, начальника цеха Тамару Ивановну Сергееву и саму виновницу «торжества» —Лидию Михайловну Ловилову. Разговор пошел на повышенных тонах, и тут Ловилова не выдержала: расплакалась и призналась, что она из кусков шкурок сшивала пластины, их заменяла на целые, из которых потом шила шапки и продавала. Она готова выдать похищенное и больше никогда не совершать кражи.
Секретарь парткома и начальник цеха тут же отправились на машине домой к Лидии Ловиловой, где та выдала шапку, о чем был составлен акт.
Ловилову отругали, но в милицию заявлять не стали. Однако через некоторое время в кабинете мастера участка Митрофановой обнаружили новую шапку. Опять вызвали Лидию Ловилову к директору, и она призналась, что подложила шапку Митрофановой.
О случившимся на фабрике уже знали все, было принято решение передать материалы в ОБХСС. Скрыть и оставить безнаказанной Ловилову было невозможно.
По данному факту возбудили уголовное дело, в процессе расследования которого было установлено, что старший мастер участка №4 Лидия Михайловна Ловилова в течение 1986—1987 годов неоднократно совершала хищение скроя меховых шапок, заготовок велюра и готовые головные уборы. За тот период времени, что удалось доказать, ею было похищено два головных убора из шкурок ондатры стоимостью 282 рубля, скрой мужского головного убора из крашеной белки стоимостью 68 рублей 20 копеек, скрой мужского головного убора из ондатры стоимостью 75 рублей 80 копеек, 8 заготовок велюра стоимостью 73 рубля. Всего было похищено на общую сумму 506 рублей 60 копеек.
Следствие квалифицировало действия Л. М. Ловиловой как хищение государственного имущества путем присвоения, растраты и злоупотребления своим служебным положением по ч. 2 ст. 92 УК РСФСР.
Куйбышевским районным народным судом города Ленинграда Лидия Михайловна Ловилова была осуждена к 3 годам лишения свободы условно.
Уголовное дело о банде автоматчиков (без номера)
Октябрь 1973 года выдался в Ленинграде дождливым и промозглым. В казарме было тепло. Рядовому Николаю Рябинину предстояло на следующий день заступать в наряд. Прозвучал отбой, он улегся на койку, закрыл глаза и попытался представить себе «гражданку»: что он будет делать, куда пойдет учиться, или, может, даже и женится, ведь его ждала из армии любимая девушка. Но с соседней кровати бубнил на ухо Петя Севастьянов, большой любитель всяких ужасов. Чуть ли не после каждого отбоя он ухитрялся начать какой-нибудь кошмарчик. Вот и в этот раз, как только улеглись, Петя стал рассказывать, как они с приятелем пошли в лес, и вдруг все вокруг них потемнело, откуда-то стал наползать туман, стало стихло, даже птицы перестали щебетать. Петра и его приятеля охватил ужас, земля под ногами стала дрожать, они упали на колени, и перед ними неожиданно возникла темная масса…
Николаю надоело слушать Петра, и он сказал, что хватит бубнить, надо спать, потому что завтра заступать в наряд. И повернулся к нему спиной. Севастьянову ничего не оставалось кроме как утихнуть. Вскоре оба уснули.
…Разбудил Николая ставший уже привычным крик: «Подъем! Выходи строиться!». Николай по привычке быстро оделся и выскочил на улицу. Зарядка, завтрак, построение, смена наряда.
Войсковая часть, в которой служил Николай Рябинин, находилась в поселке Мурино под Ленинградом. Пост, на который заступил Николай, был складом, находившимся в самом отдаленном месте войсковой части. Каждые два часа постовые менялись, время шло. Вот уже осталось отстоять только ночь, а там уже и сменят!.. В час ночи сержант Сергеев повел Николая на пост, но, не дойдя до него где-то с полкилометра, сказал: «Давай по-быстрому меняй, а я здесь постою, надоело уже бегать». Николай пошел один. Моросил мелкий дождь, ветер злился и гнул к земле. Николаю почему-то стало жутко, он вспомнил рассказ Севастьянова – и тут неожиданно перед ним появилась непонятная темная масса! Она стала надвигаться прямо на него. Николай остолбенел, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, а темная масса надвигалась… И последнее, что он увидел перед собой, была рука с большим ножом.
Сержант Сергеев постоял минут десять. Никого не было, и он стал кричать: «Ей, вы где?». Тут из темноты и вынырнул сменщик Рябинина Авдеев.
– Ну что, все в порядке? – спросил Сергеев.
– Да, – ответил Авдеев, хотя и не видел Рябинина, и не сменился, как положено по уставу.
Он ушел с поста пораньше и ждал смены – недалеко от того места, где обычно останавливался сержант.
…Прошло два часа, и, захватив сменщика Иванова, Сергеев направился на пост. Не доходя до поста, опять отправил солдата менять Рябинина и стал его ждать. Прошло десять минут, пятнадцать, никто не приходил. Разозлился Сергеев и сам пошел на пост искать Рябинина. Подошел к посту и услышал, как кричит Иванов: «Стой! Кто идет?» Сержант Сергеев сказал пароль, подошел к рядовому Иванову и спросил:



