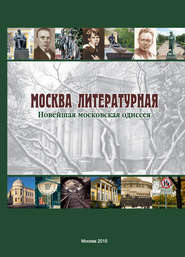 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Москва литературная. Новейшая московская одиссея
В доме 12 Брюсовского переулка находится музей Всеволода Мейерхольда.
В этом доме на втором этаже в кв. 11с 1928 по июль 1939 года, до своей трагической гибели жила известная актриса Зинаида Николаевна Райх, бывшая жена С. Есенина, впоследствии жена знаменитого режиссера Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Здесь установлена мемориальная доска, посвященная Всеволоду Мейерхольду и находится музей-квартира режиссера.


Зинаида Николаевна Райх, дочь обрусевшего немца Николая Райха и бедной дворянки Анны Викторовой, была матерью двоих детей С. Есенина – Татьяны и Константина, ставшего известным спортивным журналистом. Есенин и Райх познакомились весной 1917 года в редакции петербургской левоэсеровской газеты «Дело народа». В годы революции поэт был близок к левоэсеровским кругам и часто бывал в редакции, где Зинаида работала машинисткой. Есенин подарил З.Н. Райх свою фотографию, надписав: «За то, что девочкой неловкой предстала ты мне на пути моем. Сергей». Через три месяца 30 июля 1917 года они обвенчались в церкви Кирика и Иулитты (Улиты) с. Толстикова Вологодского уезда, в 7 км от Вологды. Есенину было двадцать два. Райх на год старше. Поручителем был поэт Алексей Алексеевич Ганин, молодой поэт, уроженец Вологодской губернии, друг Есенина, с которым они вместе путешествовали по русскому
Северу (через Вологду и Архангельск на Соловки). Ганин и был инициатором этой поездки, пригласив их то ли на свой день рождения (28 июля), то ли, чтобы познакомить родных с Зинаидой Николаевной, в которую был влюблен. Свадьба Есенина не сказалась на дружеских отношения двух поэтов.
Брак Есенина и Райх оказался не очень счастливым. Хотя оба любили друг друга, совместная жизнь была тяжелой: ревность, ссоры, расставания, примирения. Осенью 1921 года они окончательно расстаются. Но чувство любви к жене Есенин всегда хранил в своей душе.
История их разрыва отражена в известном стихотворении «Письмо к женщине» (1924), переполненном горечи прощания с той, которую поэт, «Вас помнящий всегда», по-прежнему называет любимой:
Вы помните,Вы все, конечно, помните,Как я стоял,Приблизившись к стене,Взволнованно ходили вы по комнатеИ что-то резкоеВ лицо бросали мне.Вы говорили:Нам пора расстаться,Что вас измучилаМоя шальная жизнь,Что вам пора за дело приниматься,А мой удел —Катиться дальше, вниз.Любимая!Меня вы не любили.……………………..Любимая!Я мучил вас,У вас была тоскаВ глазах усталых:Что я пред вами напоказСебя растрачивал в скандалах.Зинаида Райх, является также одним из возможных прототипов героини стихотворения «Собаке Качалова» (1925), наряду с Шаганэ Тальян и Галиной Бениславской:
Мой милый Джим, среди твоих гостейТак много всяких и невсяких было.Но та, что всех безмолвней и грустней,Сюда случайно вдруг не заходила?Она придет, даю тебе поруку.И без меня, в ее уставясь взгляд,Ты за меня лизни ей нежно рукуЗа все, в чем был и не был виноват.После разрыва с Есениным, который она переживала мучительно, Зинаида Николаевна, в свое время закончившая 8 классов гимназии и учившаяся на Высших женских курсах в Киеве и Петрограде, стала студенткой Высших режиссёрских мастерских Москве, которыми руководил Мейерхольд. Через год они поженились. Несмотря на то, что Мейерхольд усыновил Татьяну и Константина, Сергей Есенин навещал своих детей, которые носили его фамилию.
В начале 1924 года состоялся дебют З.Н. Райх на сцене ГОСТИМА (Государственного Тетра имени Мейерхольда). Она сыграла Аксюшу в спектакле «Лес» А.Н. Островского. И вскоре стала ведущей актрисой этого театра. В так называемой «желтой комнате» Мейрхольдов в тридцатые годы собирался весь цвет театральной Москвы.
В июльскую ночь 1939 года двое неизвестных проникли в комнату через открытую дверь балкона и нанесли Зинаиде Николаевне 9 ран ножом в грудь и в шею. Убийцы не были найдены, причина преступления осталась нераскрытой. Незадолго до смерти Зинаида Николаевна обращалась с письмом к Сталину с просьбой осовободить арестованного в Ленинграде за месяц до этих трагических событий мужа. Ни одна из версий (уголовное преступление, убийство из-за квартиры, политический заказ) не имеет неопровержимых доказательств. Её могила находится на Ваганьковском кладбище недалеко от могилы Есенина. В 1986 там же был похоронен и ее сын Константин.
Брюсовский перулок – артистический, здесь жили многие известные деятели искусства, композитор Авраам Хачатурян (ему поставлен памятник напротив д. 17), Дом 17 был жилым домом МХАТ. Здесь жил знаменитый артист В. Качалов, который дюбил читать стихи Есенина, в том числе, известное «Собаке Качалова». Здесь уже в наше время установлен памятник Мстиславу Ростроповичу, здесь обосновался современный художник Никас Сафронов.
В конце Брюсовского переулка на углу Никитской улицы (д. 2, стр. 4 или Б. Никитская, д. 14) во дворе находился так называемый «Дом Правды», так как в нем жили сотрудники издательства «Правда» и других газет. Дом, где обитал поэт, не виден с улицы, потому что располагался в глубине обширного двора, за старинными строениями, среди них есть даже постройки XVIII века. В глубине двора плотно друг к другу стояли четыре одинаковых кирпичных, неоштукатуренных здания.
Здесь находилась квартира (№ 26, по другим данным, № 27) Галины Артуровны Бениславской, работавшей в отделе писем редакции газеты «Беднота». Галина Бениславская (1897–1926) была Есенину верным другом, неоценимым помощником в литературных хлопотах, добровольным редактором, разыскивала его забытые стихи в журналах 1910-х годов и любила поэта так, что не могла пережить его смерть
.


Бениславская увидела впервые увидела Сергея Есенина на одном из литературных вечеров в сентябре 1920 года, а в декабре в кафе «Стойло Пегаса» произошло личное знакомство, перешедшее в тесную дружбу. Через год, в октябре
1921 года после встречи с Айседорой Дункан Есенин уходит из квартиры Бениславской, где он жил некоторое время. Но после возвращения из заграничного путешествия (май
1922 – август 1923) и разрыва с А. Дункан Есенин возвращается к Бениславской. В начале сентября он вступил с ней в гражданский брак, перевез сюда свои вещи и прожил здесь два года – с сентября 1923 по июнь 1925 г.
И до лета 1925 года Сергей Есенин жил здесь в 17-метровой комнате большой коммунальной квартиры и считал ее своим домом. Позже поэт привез сестер Катю и Шуру, сюда приезжала его мать Татьяна Фёдоровна.

Обстановка в комнате вначале была совсем спартанской. Обеденный стол заменял кухонный, а письменным служил ломберный столик. Железная кровать, тахта с провалившимися пружинами, два венских стула, табуретки, две тумбочки. Чистота в комнате поддерживалась идеальная. Позднее появились шесть венских стульев, стол, шкаф. Чай пили из пузатого самоварчика, за которым однажды Сергей Есенин читал поэму «Анна Снегина» матери, приехавшей в Москву проведать сына. Эта фотография матери за самоваром сохранилась.
В тот период жизни Есенин много работал, обычно писал за обеденным столом, убрав все лишнее, кроме цветов. Несмотря на тесноту, жили дружно и старались создать все условия для работы, возможности для полноценной творческой деятельности в перенаселенной комнате не было, и Есенин часто уезжал в деревню, на Кавказ, в Питер. Когда поэт возвращался в Москву, комната в Брюсовском наполнялась многочисленными гостями – писателями, артистами, художниками, издателями. Тогда читались стихи, пелись песни.
В этом доме были написаны куски поэмы «Гуляй-поле», стихотворение «Пушкину», «Поэма о 36». Здесь, по утверждениям поэта В. Наседкина, мужа его сестры Кати, Есенин набело переписал, «Анну Снегину», написанную на Кавказе в первой половине 1925 года.
Все пять лет знакомства с поэтом. Бениславская занималась его литературными делами, вела переговоры с редакциями и издательствами, готовила договоры на издания книг Есенина. Сохранились письма поэта к Г.А. Бениславской с различными просьбами и поручениями. Она много внимания уделяла быту Есенина, заботилась о сестрах. Анатолий Мариенгоф в своих воспоминаниях писал, что после приезда Есенина из Америки «Галя стала для него самым близким человеком: возлюбленной, другом, нянькой. Нянькой в самом высоком, благородном и красивом смысле этого слова…»[7].
Есенин считал Галю своей женой, даже в анкетах писал: «Женат», доверял ей все свои дела, в том числе материальные. Уехав в апреле 1924 года в Ленинград работать над поэмой о граде Петра – «Песней о великом походе», он писал ей: «Галя милая! Я очень люблю Вас и очень дорожу Вами. Дорожу Вами очень, поэтому не поймите отъезд мой, как что-нибудь направленное в сторону друзей от безразличия. Галя милая! Повторяю Вам, что Вы очень и очень мне дороги. Да и сами Вы знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного». Но отношения были неровными: ревность с обеих сторон, которую подогревали приятели, считая, что Галя претендует на их место в жизни поэта, самолюбивое желание обоих чувствовать себя свободными. И решив начать новую жизнь после знакомства с Софьей Андреевной Толстой, внучкой Льва Толстого, дочерью сына писателя Андрея Львовича, он порывает с Галей и женится на Софье Андреевне. Но даже после разрыва Есенин еще много раз возвращался сюда, в Брюсов переулок, куда его тянуло.
Бениславская также тяжело переживала расставание. Осенью 1925 года в течение месяца, до 19 декабря лежала в больнице с депрессией. Когда Есенин погиб, Бениславской в Москве не было, по совету врачей, она уехала в деревню. О смерти поэта ее известили не сразу, и на похороны она не успела, добралась в день похорон в Москву почти ночью. Без Есенина жизнь Галины Бениславской утратила смысл.
К своему уходу из жизни она готовилась: раздарила близким вещи, связанные с памятью о Есенине, составила список книг чужих книг, которые брал поэт и которые нужно было вернуть, разбирала архивы. И в ночь с 3-го на 4-е декабря 1926 года выстрелила в себя на могиле Есенина на Ваганьковском кладбище. В предсмертной записке она написала: «3 декабря 1926 года. Самоубилась здесь, хотя и знаю, что после этого ещё больше собак будут вешать на Есенина… Но и ему, и мне это всё равно. В этой могиле для меня всё самое дорогое…». О личности Галины Бениславской, их отношениях с Сергеем Есениным, о ее роли в творческой и личной судьбе поэта написано много, в том числе немало спекулятивного. Лучшая книга «Сергей Есенин и Галина Бениславская» (СПб., 2008), созданная на основе архивных материалов, принадлежит перу доктора филологических наук. Н.И. Шубниковой-Гусевой, заведующей есенинским сектором Института мировой литературы. Начатые же воспоминания Галины Бениславской о Сергее Есенине остались незавершёнными.
Почти напротив дома «Правды» на Б. Никитской в доме 13 находится Большой зал консерватории. В двадцатые годы здесь звучала не только музыка. В Большом зале проходили литературные вечера, в частности, 4 ноября 1920 года состоялся нашумевший «суд» над имажинистами. Именно тогда Галина Бениславская впервые увидела Сергея Есенина, читавшего «Хулигана»:
Дождик мокрыми метлами чиститИвняковый помет по лугам.Плюйся, ветер, охапками листьев, —Я такой же, как ты, хулиган.Билеты были распроданы задолго до вечера. Председателем вечера был Валерий Брюсов, а в качестве обвинителей (12 сюдей) и защитников выступили присутствующие поэты разных направлений. Истцом был Иван Аксенов, зам председателя Союза поэтов. Имажинисты явились на суд в полном составе. Обвинительную речь в ироническом стиле произнес Брюсов. Творчество имажинистов он рассматривал как покушение на крылатого Пегаса с негодными средствами.
В ответном слове Есенин заявил, что крылатый Пегас давно оседлан имажинистами, которые держат его в своем «Стойле». Свою речь, которая сопровождалась громким смехом присутствующих, он закончил цитатой из «Горе от ума»: «А судьи кто?», заявив, что у истца нет хороших стихов и «этот тип», «утонувший в рыжей бороде» ничего не сделал в поэзии. Суд стал притчей во языцах в литературной Москве. Уже на следующий день в клуб Союза поэтов стали приходить любопытные и просили показать им гражданского истца, утонувшего в своей рыжей бороде. Аксенов, который по должности бывал в Союзе каждый день, узнав об этом, сбрил бороду.
Суд над имажинистами чтением ими своих стихов. Последним выступал Есенин. Он прочитал раннее стихотворение «В том краю, где желтая крапива…», которое было встречено аплодисментами. Это и определило вердикт. Суд оправдал имажинистов.
17 ноября 1920 года они устроили в Политехническом музее ответный вечер: «Суд имажинистов над литературой». Ажиотаж был такой, что пришлось прибегнуть к помощи конной милиции, пытавшейся навести порядок. В качестве обвинителей современной литературы – символистов, акмеистов и особенно футуристов – выступили Иван Грузинов и Вадим Шершеневич, до революции участник футуристической группы «Мезонин поэзии».
Присутствующий на вечере Маяковский объявил, что «на днях» он слушал дело в народном суде. «Дети убили свою мать, за то, что, по их мнению, она была “дряной женщиной”». «Мать это – поэзия, а сыночки-убийцы – имажинисты!»[8]
Слушатели с восторгом воспринимали слова Маяковского. В ответ Шершеневич обвинил футуристов, что это они сбрасывали всех поэтов с парохода современности, то есть убивали поэзию.
В полемику вступил Есенин, провозгласив близкий час гибели газетных стихов Маяковского.
В заключение судебного заседания имажинисты стали читать стихи. Есенинский «Сорокоуст» был встречен шумным неприятием низких образов. Вечер закончился скандалом, что, по мнению имажинистов, способствовало популяризации их творчества.
В соседнем с Большим залом консерватории (Б. Никитская, д. 15) одноэтажном здании в стиле неоампир, построенном в 1912 году, в конце. 1919 года была открыта книжная лавка «МТАХС» – «Московской Трудовой Артели Художников Слова» организованной Есениным. Артель имела свое издательство, директором которого числился Есенин. В витрине были выставлены книги Сергея Есенина, а сам поэт и А. Мариенгоф часто стояли за прилавком. Магазин пользовался популярностью.
Зимой в лавке царил холод (топить было нечем), Есенин работал в пальто, но, читая стихи, снимал его. Друг поэта Рюрик Александрович Ивнев вспоминал, что здесь Есенин прочел ему «Песню о хлебе».
На антресолях, куда нужно было подняться по винтовой лестнице, стоял большой старинный стол, за которым поэты работали.
За прилавком у Есенина произошла полемика с одним профессором истории о подлинности «Слова о полку Игореве». Есенин был убежден, что «Слово» является не подделкой, а подлинным творением неизвестного гения. Есенин цитировал наизусть отрывки из «Слова»: «Вот где точности и красоте языка учиться!»
Пройдем вверх по Большой Никитской и напротив здания ИТАР-ТАСС (Информационного телеграфного агентства России), повернем направо в Леонтьевский переулок, получивший название по фамилии домовладельца. Переулок несколько раз переименовывался: Шереметевский – по дому боярина Шереметева, с 1938 года – улица Станиславского, который жил здесь. В 1994 году ему вернули историческое название. Это был аристократический и посольский район, и в настоящее время здесь находятся несколько посольств иностранных государств. Особняк под номером 18 когда-то принадлежал графу А.С. Уварову. В двадцатых годах девятнадцатого века здесь жил композитор А.А. Алябьев. Сейчас в небольшом саду находится Посольство Украины. А в 1918 году работал ЦК левых эсеров (левого крыла партии социалистов-революционеров) и редакции их газет «Знамя труда» и «Голос трудового крестьянства». Есенин в годы революции сочувствовал эсеровским идеям, в частности, их земельной программе, печатался в их изданиях и часто бывал в этом здании.

Еще до октября в 1916 году Разумник Васильевич Иванов (Иванов-Разумник), философ, публицист, критик, общественный деятель, создал группу «Скифы», близкую к левым эсерам. Ее членами стали А. Блок, А. Белый, Н. Клюев,
С. Есенин, О. Форш. «Скифы» ратовали за соединение идей социализма с христианством, что привело к их поддержке духовенством и мечтали о крестьянской революции. Есенин печатался в изданиях «Скифов».
В эти годы Иванов-Разумник был духовным авторитетом и задушевным другом поэта. В письме к А. Ширяевцу Есенин признавался, что у Разумника Васильевича «…я сам, Сергей Есенин, и отдыхаю, и вижу себя, и зажигаюсь от себя».
А напротив, в доме 21/3 в 1923 году в Леонтьевском переулке жил писатель Борис Андреевич Пильняк. Есенин неоднократно бывал у него. В творческой биографии Сергея Есенина и Бориса Пильняка (настоящая фам. Вогау) много общего. Оба прекрасно знали старую Русь, фольклор, увлекались стихами Александра Блока и Андрея Белого, оба, по терминологии Л. Троцкого, тогда всесильного идеолога и автора книги «Литература и революция», считались «попутчиками» революции, печатались в одних изданиях. Оба сочувствовали новым общественным идеалам, но ратовали за независимость искусства от идеологии. Вспомним есенинское: «Отдам всю душу Октябрю и Маю, / Но только лиры милой не отдам». Пильняк считал, что «коммунистическая власть в России определена – не волей коммунистов, а историческими судьбами России»: «Поскольку коммунисты с Россией, постольку я с ними», – но не признавал в «нашей революции тон неприятного бахвальства и самохвальства…»[9]. Оба писателя ценили друг друга. У Есенина есть неизданная при жизни статья о современной литературе, в которой он сравнивает Пильняка с Гоголем. Есенин высоко ценил роман Пильняка «Голый год», читал в рукописи «Повесть о непогашенной луне», в основе сюжета которой – история смерти М. Фрунзе. В свою очередь в романе «Волга впадает в Каспийское море» Пильняк создал образ своего уже умершего друга-поэта. Одним из первых Пильняк откликнулся на смерть Есенина, написав некролог. Существовали и причудливые внелитературные обстоятельства, их связывающие. Именно Пильняк весной 1925 года познакомил Есенина с Софьей Толстой, которая тогда была героиней его романа. Это знакомство завершилось коротким браком: в сентябре Софья Андреевна стала последней женой Есенина.

Возвратившись по Леонтьевскому переулку на Тверскую, мы увидим на противоположной стороне (Тверская ул., д. 10) знаменитый дом Филиппова. Он был построен в 1885–1892 годах архитектором и принадлежал семье известных булочников Филипповых. В левой части здания находилась любимая москвичами булочная, в которой продавали горячие булки и калачи прямо из печи, жареные пирожки. В советское время здесь был гастроном, который в народе по-прежнему называли Филипповским. При булочной находилось небольшое кафе, которое открылось в 2015 году после реконструкции. По воспоминаниям близких, Есенин любил пить чай с горячими калачами от Филиппова. В доме также была расположена гостиница «Люкс», которая в 1953 году была переименована в «Центральную», сейчас ей возвращено прежнее название. В 1919 году в номерах гостиницы было общежитие Народного коммиссариата внутренних дел. Есенин жил здесь в 291-м номере вместе с приятелем Георгием Устиновым (1882–1932), большевиком, журналистом, сотрудником газеты «Правда», заведующим лекционным отделоми «Центропечати», литературным критиком и негласным сотрудником ЧК.
Есенин нередко работал в кабинете Устинова. В этот период он написал «Небесного барабанщика» с его призывом вселенского обновления мира: «Да здравствует революция / На земле и на небесах!», а также «маленькую поэму» «Пантократор»[10].
Имя Устинова связано и с трагической гибелью Сергея Есенина в ленинградской гостинице «Англетер». Устинов и его жена Елизавета, которую Есенин считал другом и звал «тётей Лизой», находились с ним в последние дни жизни. Но при прощании с покойным в «Англетере», в ленинградском Доме писателей и на вокзале, а также в московском Доме печати (ныне Дом журналиста) Устиновых не было.

А на нечетной стороне Тверской между Большим и Малым Гнездниковскими переулками находилось самое известное московское кафе «Стойло Пегаса» – «резиденция имажинистов», детище их «Ассоциации вольнодумцев». Точное местонахождение его неизвестно, возможно, на углу Тверской с Малым Гнездниковским в доме 37. Кафе открылось в 1919 году в помещении бывшего актерского кафе «Бом»[11]. Для вывески художник Жорж Якулов изобразил скачущего «Пегаса». Обстановка в помещении была по-имажинистски эпатирующей, вызовом отрадиционной эстетике. Стены покрашены ультрамариновой краской. Желтым цветом были нарисованы портреты имажинистов, которые сопрвождались стихотворными строчками.
Между двух зеркал было изображение контуром лицо Есенина с золотистыми волосами. Под портретом цитата: «Срежет мудрый садовник – осень // Головы моей желтый лист».
По одну сторону от зеркала были написаны обнаженные женщины с глазом в середине живота как илллюстрация к известным строчкам Есенина:
Посмотрите: у женщин третийВылупляется глаз из пупа.По другую сторону зеркала был помещен портрет Мариенгофа в цилиндре, ударяющего кулаком в желтый круг. Пояснением служили его стихи: «В солнце кулаком бац, // А вы там, – каждый собачьей шерсти блоха, // Ползаете, собираете осколки // Разбитой клизмы».
В углу был нарисован портрет Вадима Шершеневича и пунктиром был намечен забор, на котором было написано:
И похабную надпись заборнуюОбращаю в священный псалом.Над эстрадой напротив двери сразу бросались в глаза написанные большими белыми буквами строки Есенина: «Плюйся, ветер, охапками листьев, // Я такой же, как ты, хулиган!». Надпись появилась через год после открытия.
В левом углу, наискосок от входа находилась «ложа имажинистов» – угловой диван или два сдвинутых углом дивана, там сидели обычно Есенин, Мариенгоф, Шершеневич.
Ложа была отделена от зала большим столом со стульями в кафе проходили концерты, спектакли, выставки, читались даже лекции. Но «Стойло Пегаса» пользовалось скандальной репутацией.
Кафе было закрыто в 1924 году из-за финансовых сложностей. К этому времени Есенин порывает и с имажинизмом и с А. Мариенгофом. Еще в статье «Быт и искусство» (1921) Есенин выступил с критикой положений имажинистов, что искусство существует «вне всяких влияний жизни и ее уклада», и подчеркнул зависимость поэтического мышления от духовной жизни народа. «У собратьев моих нет чувства родины», – с горечью констатирует поэт. В августе 1924 года Есенин в «Правде» опубликовал заявление о роспуске труппы имажинистов. Шершеневич, Ивнев и Мариенгоф не согласились с этим, образовав «Общество имажинистов», которое просуществовало до 1927 года.
Оставшись без Есенина, Мариенгоф, Шершеневич, Ивнев, Ройзман открыли кафе «Калошу» во 2-м Доме советов (гостиница «Метрополь»), потом «Мышиную нору» на углу Кузнецкого моста и Неглинной. Но их существование было недолгим, оба кафе прогорели.
На Тверской же в бывшем кафе «Домино» существовало кафе Всероссийского союза поэтов, которое открывало двери авторам стихов из разных литературных группировок. Здание также не сохранилось, после реконструкции улицы Горького (Тверская), в предвоенные годы.
Еще один адрес есенинский в районе Тверской – Козицкий пер., д. 3. Здесь, почти на углу Тверской, в 1919 году по инициативе Есенина была организована писательская коммуна. «Квартирный вопрос» в перенаселенной Москве был очень острым. А «коммуне» Моссовет выделил пятикомнатную квартиру. Но затея быстро провалилась. Как вспоминал Рюрик Ивнев, жизнь в коммуне началась с первых же дней небывалым нашествием друзей, которые привели с собой друзей своих друзей». Работать в таких условиях оказалось невозможно.
На Тверском бульваре возвышается памятник Александру Сергеевичу Пушкину работы скульптора Александра Михайловича Опекушина. Памятник сооружен на народные деньги. Еще в 1860 году по инициативе выпускников Царскосельского лицея была объявлена подписка. Он был установлен 6 июня 1880 года в начале Тверского бульвара на Страстной площади (ныне Пушкинская) лицом к Страстному монастырю. В 1950 году памятник переместили на противоположную сторону площади. В день открытия памятника в Московском университете прошло торжественное собрание, на котором с речами о значении творчества Пушкина для русской культуры выступили известные ученые, в частности, историк В.О. Ключевский. А в зале Дворянского собрания праздничные мероприятия продолжались три дня. Перед собравшимися выступили И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, И.С. Аксаков и другие.



