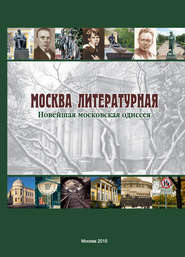 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Москва литературная. Новейшая московская одиссея
Когда дошла очередь до Петра и Макара, то Петр сказал:
– Товарищ начальник, я вам психа на улице поймал и за руку привел.
– Какой же он псих? – спрашивал дежурный по отделению. – Чего ж он нарушил в общественном месте?
– А ничего, – открыто сказал Петр. – Он ходит и волнуется, а потом возьмет и убьет: суди его тогда. А лучшая борьба с преступностью – это предупреждение ее. Вот я и предупредил преступление.
– Резон! – согласился начальник. – Я сейчас его направлю в институт психопатов – на общее исследование…
Милиционер написал бумажку и загоревал:
– Не с кем вас препроводить – все люди в разгоне…
– Давай я его сведу, – предложил Петр. – Я человек нормальный, это он – псих.
– Вали! – обрадовался милиционер и дал Петру бумажку.
В институт душевноболящих Петр и Макар пришли через час. Петр сказал, что он приставлен милицией к опасному дураку и не может его оставить ни на минуту, а дурак ничего не ел и сейчас начнет бушевать.
– Идите на кухню, вам там дадут покушать, – указала добрая сестра-посиделка.
– Он ест много, – отказался Петр. – Ему надо щей чугун и каши два чугуна. Пусть принесут сюда, а то он еще харкнет в общий котел.
Сестра служебно распорядилась. Макару принесли тройную порцию вкусной еды, и Петр насытился заодно с Макаром.
В скором времени Макара принял доктор и начал спрашивать у Макара такие обстоятельные мысли, что Макар по невежеству своей жизни отвечал на эти докторские вопросы как сумасшедший. Здесь доктор ощупал Макара и нашел, что в его сердце бурлит лишняя кровь.
– Надо его оставить на испытание, – заключил про Макара доктор.
И Макар с Петром остались ночевать в душевной больнице. Вечером они пошли в читальную комнату, и Петр начал читать Макару книжки Ленина вслух.
– Наши учреждения – дерьмо, – читал Ленина Петр, а Макар слушал и удивлялся точности ума Ленина. – Наши законы – дерьмо. Мы умеем предписывать и не умеем исполнять. В наших учреждениях сидят враждебные нам люди, а иные наши товарищи стали сановниками и работают, как дураки…
Другие больные душой тоже заслушались Ленина, – они не знали раньше, что Ленин знал все.
– Правильно! – поддакивали больные душой и рабочие и крестьяне. – Побольше надо в наши учреждения рабочих и крестьян, – читал дальше рябой Петр. – Социализм надо строить руками массового человека, а не чиновничьими бумажками наших учреждений. И я не теряю надежды, что нас за это когда-нибудь поделом повесят…
– Видал? – спросил Макара Петр. – Ленина – и то могли замучить учреждения, а мы ходим и лежим. Вот она тебе, вся революция, написана живьем… Книгу я эту отсюда украду, потому что здесь учреждение, а завтра мы с тобой пойдем в любую контору и скажем, что мы рабочие и крестьяне. Сядем с тобой в учреждение и будем думать для государства.
После чтения Макар и Петр легли спать, чтобы отдохнуть от дневных забот в безумном доме. Тем более что завтра обоим предстояло идти бороться за ленинское и общебедняцкое дело.
* * *Петр знал, куда надо идти, – в РКП, там любят жалобщиков и всяких удрученных. Приоткрыв первую дверь в верхнем коридоре РКП, они увидели там отсутствие людей. Над второй же дверью висел краткий плакат «Кто кого?», и Петр с Макаром вошли туда. В комнате не было никого, кроме тов. Льва Чумового, который сидел и чем-то заведовал, оставив свою деревню на произвол бедняков.
Макар не испугался Чумового и сказал Петру:
– Раз говорится «кто кого?», то давай мы его…
– Нет, – отверг опытный Петр, – у нас государство, а не лапша. Идем выше.
Выше их приняли, потому что там была тоска по людям и по низовому действительному уму.
– Мы – классовые члены, – сказал Петр высшему начальнику. – У нас ум накопился, дай нам власти над гнетущей писчей стервой…
– Берите. Она ваша, – сказал высший и дал им власть в руки.
С тех пор Макар и Петр сели за столы против Льва Чумового и стали говорить с бедным приходящим народом, решая все дела в уме – на базе сочувствия неимущим. Скоро и народ перестал ходить в учреждение Макара и Петра, потому что они думали настолько просто, что и сами бедные могли думать и решать так же, и трудящиеся стали думать сами за себя на квартирах.
Лев Чумовой остался один в учреждении, поскольку его никто письменно не отзывал оттуда. И присутствовал он там до тех пор, пока не была назначена комиссия по делам ликвидации государства. В ней тов. Чумовой проработал сорок четыре года и умер среди забвения и канцелярских дел, в которых был помещен его организационный гос-ум.
Ученику и учителю
Прогулки по пушкинской Москве
вспоминал свое «золотое» московское детство Пушкин-ли-цеист, автор знаменитых «Воспоминаний в Царском Селе» (1815). И на то были свои веские основания.
Детские годы в Москве: 1799-1811
А.С. Пушкин родился 26 мая 1799 года (по новому стилю – 6 июня) в Москве, в Немецкой слободе, в доме коллежского регистратора Ивана Васильевича Скворцова, где его родители снимали квартиру. Слово «немецкая» не нужно понимать в буквальном смысле. Русский человек допетровской эпохи всех иноземцев привык именовать этим словом, толкуя его в духе «народной этимологии»: «немец» – значит, «немой», то есть не говорящий по-русски. В Немецкой слободе, следовательно, жили выходцы, как мы бы сейчас сказали, из ближнего и дальнего зарубежья: послы, торговцы, путешественники и просто уроженцы далеких земель, чьей второй родиной волею судеб стала Москва. Этот район Москвы традиционно считался аристократическим, престижным. Здесь-то и суждено было родиться Саше Пушкину. Однако вот о том, где именно находился дом И.В. Скворцова – до сих пор ведутся споры. Этот дом не сохранился. Долгое время считалось (и до сих пор многими считается), что он располагался на месте школы № 353 по Баумановской улице (ныне дом № 40). Об этом говорят и памятная доска на стенах школы, и оригинальный памятник поэту во дворе школы, работы скульптора Е.Ф. Белашовой. Однако краевед
С.К. Романюк вполне убедительно, ссылаясь на архивные документы землевладения того времени, доказал, что дом Скворцова находился не здесь, а немного поодаль, у Госпитального моста. Его современный адрес был бы Малая Почтовая улица, 4. Всё так. Однако памятную табличку на стенах школы снимать не спешат…
Неподалеку от Баумановской улицы находится собор Богоявления в Елохове. Долгое время (до постройки Храма Христа Спасителя) он оставался главным православным храмом Москвы. Современный вид, в стиле позднего ампира, собор приобрел в 1835–1845 годы, когда был заново отстроен архитектором Е.Д. Тюриным. В 1799 году этот храм, однако, имел совсем другой вид, хотя уже носил свое привычное название. В нем-то и крестили Пушкина. Это случилось 8 июня 1799 года, о чем сохранилась запись в метрической книге.
А буквально в метрах пятистах от Елоховского собора находится еще один пушкинский адрес: Старая Басманная, 36. Это московский адрес, без которого детство Пушкина не состоялось бы как пора пробуждения в нем интереса к поэзии и литературе. В этом доме, находящемся совсем неподалеку от родительского дома, в 1826–1830 годы проживал дядя Пушкина – Василий Львович, брат отца, Сергея Львовича. В годы московского детства Пушкина его адрес был иной, но это обстоятельство не помешало сначала родственному знакомству, а затем и тесному общению дяди и племянника. Василий Львович был своим человеком в доме старшего брата. Оба братья были поэтически одарены, слыли убежденными поклонниками Н.М. Карамзина, но как поэт в первое десятилетие XIX века прославился именно дядя, автор фривольно-шуточной поэмы «Опасный сосед» (1811), чей поэтический вкус был воспитан на французской легкой поэзии и «изящном» карамзинском слоге, что он и стремился привить своему племяннику. Дяде Пушкин был обязан и выбором учебного заведения, где прошли его первые «литературные университеты». Именно Василий Львович настоял на определении мальчика в петербургский Царскосельский Лицей. Впоследствии дядя, член литературного общества «Арзамас», дал возможность своему юному племяннику войти в элиту столичного литературного сообщества, познакомив его с В.А. Жуковским, К.Н. Батюшковым, П.А. Вяземским, Д.Н. Блудовым, Д.В. Дашковым.
Поэтов грешный ликУмножил я собою,И я главой поникПред милою мечтою;Мой дядюшка-поэтНа то мне дал советИ с музами сосватал…Пушкин как поэт очень скоро перерос своего первого наставника, но его облик «взрослого ребенка» надолго сохранил для него свое неповторимое обаяние. «Дядя на Парнасе», «Парнасский мой отец» – так он называл своего «поэтического крестного». Впоследствии отношение племянника к дяде – подчеркнуто дружески-ироническое, с оттенком доброго сочувствия к его нестареющему пылу пламенного литературного борца и задиристого полемиста. Дом В.Л. Пушкина на Старой Басманной – один из первых московских адресов, куда поспешил с визитами только что вернувшийся в 1826 году из Михайловской ссылки ставший знаменитым поэт, автор «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова». Он и впоследствии часто навещал своего дядю, а 20 августа 1830 года вместе с Вяземским присутствовал при его последних минутах. «Бедный дядя Василий! – писал Пушкин П.А. Плетневу. – Знаешь ли его последние слова? Приезжаю к нему, нахожу его в забытьи, очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом помолчав: как скучны статьи Катенина! И более ни слова. Каково? Вот что значит умереть честным воином, на щите le cri de guerre a la bouche». Пушкин взял на себя хлопоты и расходы по погребению В.Л. Пушкина и проводил гроб с его телом на Донское кладбище. Ныне в доме на Старой Басманной – музей В.Л. Пушкина (филиал литературного музея А.С. Пушкина), организованный знатоком и пропагандистом его творчества, заслуженным работником культуры РФ Натальей Ивановной Михайловой.
Продолжим наше путешествие по адресам московского детства Пушкина. После рождения маленького Саши семейство Пушкиных осенью 1799 года покидает Москву Они уезжают в материнское наследственное имение – сельцо Михайловское Псковской губернии, где в то время жил отец матери Пушкина, потомок легендарного Ибрагима Ганнибала – Осип Ганнибал. Однако прожили Пушкины там недолго – по причине взрывного, неуживчивого нрава «черного арапа», то и дело затевавшего очередную «смуту» в семье. Уже в конце 1800 года Пушкины, после недолгой остановки в Петербурге, снова в Москве. На сей раз – надолго, вплоть до занятия Москвы французами в 1812 году. Что касается Саши Пушкина, то в Москве ему придется провести полные 11 лет, вплоть до отъезда в Петербург и поступления в Царскосельский Лицей.
Чтобы лучше представить себе картину этих счастливых лет детства, мысленно перенесемся в другую часть старой Москвы, в район Чистых Прудов: Большой Харитоньевский переулок, 21. Во флигеле этого дома, а правильнее было бы сказать – дворца – родители Пушкина снимали квартиру с 1801 по 1803 год. Дворец принадлежал знаменитому роду Юсуповых. Сейчас это уникальное архитектурное сооружение, историю которого московские краеведы ведут еще с 70-х годов XVII века, находится на грани исчезновения. А ведь по выразительности своего архитектурного облика и изяществу интерьеров оно не уступает знаменитой на весь мир Грановитой Палате Кремля. Проведенная к пушкинскому юбилею 1999 года реставрация, увы, оказалась недолговечной; здание, у которого так и не нашлось настоящего хозяина, за последнее десятилетие было основательно разграблено и сегодня стремительно приходит в упадок. В то время, когда там жила семья Пушкиных, дворец принадлежал князю Николаю Борисовичу Юсупову (1750–1831). Вельможа, выдвинувшийся на видные государственные посты в царствование Екатерины II, Юсупов вошел в историю отечественной культуры как крупнейший знаток и коллекционер западноевропейской живописи и скульптуры, меценат, владелец знаменитого красотою местоположения и художественными сокровищами подмосковного Архангельского. Конечно, Пушкин во время своего московского детства едва ли осознавал значение его личности, но много лет спустя, в годы своей поэтической славы, проживая в Москве, он вполне оценил давнее заочное знакомство с Юсуповым. Еще в период сватовства к своей будущей невесте, весной 1829 года, Пушкин получил от Юсупова приглашение посетить его в Архангельском, где князь тогда проживал, числясь главнокомандующим Экспедиции Кремлевского строения и мастерской Оружейной Палаты. Когда же Пушкин женился, он пригласил князя посетить квартиру на Арбате, где представил его своей жене, Наталье Николаевне Гончаровой. Портрет Юсупова Пушкин колоритно нарисовал в послании «К вельможе» (1830):
…Ступив за твой порог,Я вдруг переношусь во дни Екатерины.Книгохранилище, кумиры и картины,И стройные сады свидетельствуют мне,Что благосклонствуешь ты музам в тишине,Что ими в праздности ты дышишь благородной,Я слушаю тебя: твой разговор свободныйИсполнен юности. Влиянье красотыТы живо чувствуешь. С восторгом ценишь тыИ блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой,Беспечно окружась Корреджием, Кановой,Ты, не участвуя в волнениях мирских,Порой насмешливо в окно глядишь на нихИ видишь оборот во всем кругообразный. <…>А из московского детства Пушкину особо запомнился знаменитый «Юсупов сад», который он упомянул в плане-конспекте «Автобиографических записок». Увы, от сада сегодня не осталось и следа, но именно прогулки по саду с няней – одно из самых счастливых воспоминаний пушкинского детства. Впрочем, флигель дворца, сданный Юсуповым в аренду Пушкиным, тоже не пустовал. Сюда приходили все московские литературные знаменитости, здесь находилась богатая библиотека отца, где маленький Саша Пушкин выучился читать по-французски так же хорошо, как и по-русски, здесь часто гостевали знаменитые предки матери Ганнибалы, чей колоритный облик надолго врезался в память впечатлительному мальчику Отсюда его отвозили на лето в подмосковное Захарово, к бабушке М.А. Ганнибал – еще одно памятное подмосковное место, где прошли детские годы поэта. Здесь, «у Харитонья в переулке», поселит автор Онегина княжну Алину, кузину Прасковьи Лариной, и сюда, в этот дом, привезет на «ярмарку невест» свою любимую Татьяну…
Прощай, свидетель падшей славы,Петровский замок. Ну! не стой,Пошел! Уже столпы заставыБелеют; вот уж по ТверскойВозок несется чрез ухабы. <…>……………………………….В сей утомительной прогулкеПроходит час-другой, и вотУ Харитонья в переулкеВозок пред домом у воротОстановился. К старой теткеЧетвертый год больной в чахотке,Они приехали теперь. <…>«Русскою душою» Татьяну, думается, Пушкин не случайно привез в дом своего детства. Поскольку не только французской культурой и французскими учителями он запомнился будущему поэту. Наряду с «французским» (отцовским) влиянием будущий поэт здесь впервые впитал в себя и истоки родной культуры. И связаны они были, прежде всего, с личностью его бабушки Марии Алексеевны Ганнибал, жившей у Пушкиных в доме. В «Рассказах бабушки» Е.П. Яньковой, знакомой семьи Пушкина, найдем и интересные зарисовки их домашнего быта, примерно относящиеся к периоду жизни в юсуповском дворце: «Пушкины жили весело и открыто, и всем домом заведовала больше старуха Ганнибал, очень умная, дельная и рассудительная женщина; она умела дом вести как следует, и она также больше занималась и детьми: принимала к ним мамзелей и учителей и сама учила». Из воспоминаний Яньковой до нас дошел и устный отзыв бабушки о своем старшем внуке: «…Мальчикумен и охотник до книжек, а учится плохо, редко когда урок свой сдаст порядком: то его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и расходится, что его ничем не уймешь; из одной крайности в другую бросается, нет у него середины. Бог знает, чем это все кончится, ежели он не переменится». От бабушки Пушкин впервые услышал русские народные сказки, о чем поведал в одном из стихотворений:
Когда в чепце, в старинном одеянье,Она, духов молитвой уклони,С усердием перекрестит меняИ шепотом рассказывать мне станетО мертвецах, о подвигах Бовы…От ужаса не шелохнусь бывало.Едва дышу, прижмусь под одеяло,Не чувствуя ни ног, ни головы.От бабушки Пушкин унаследовал и вкус к живой, выразительной разговорной речи, о чем свидетельствуют ее письма к внуку в Лицей, написанные прекрасным русским языком. И, конечно, бабушка была главным источником сведений для будущего автора романа «Арап Петра Великого» о своем легендарном предке Ибрагиме Ганнибале, а также о всех родственниках по материнской линии, тесно связанных с этим замечательным дворянским родом ХУ1П столетия. Очевидно, именно бабушке маленький Пушкин был обязан приглашением в дом двух учителей, его наставников в Законе Божьем и русском языке: Александра Ивановича Беликова и Алексея Ивановича Богданова. Оба были выпускниками Духовной академии, оба были действующими священниками, оба прекрасно владея многими иностранными языками, основательно знали и русский, обучая маленького Пушкина основам православного вероучения. Вероятно, именно от них будущий поэт унаследовал духовную потребность в чтении Священного Писания, что сказалось на поэтических переложениях библейских и евангельских сюжетов в его позднем творчестве.
Словом, когда Пушкину предстояло в 1811 году прощаться с Москвой, чтобы ехать в Петербург и держать вступительные экзамены в Царскосельский Лицей, его семья, прежде всего родители и бабушка, успели основательно позаботиться о его образовании и воспитании. Во всяком случае, по русскому языку он на вступительных испытаниях получил оценку «очень хорошо», а по французскому – «хорошо», что выгодно отличало будущего лицеиста от других его товарищей, державших те же экзамены.
В зените славы: московская жизнь А.С. Пушкина 1826-1829
Увы, следующая встреча с Москвой у Пушкина произошла не скоро. Лицей, служба в Коллегии иностранных дел, бурная петербургская молодость, южная ссылка (Крым, Кишинев, Одесса), ссылка в Михайловское… 15 лет разлучили его с Москвой. Тем желаннее была новая встреча:
Ах, братцы! как я был доволен,Когда церквей и колоколен,Садов, чертогов полукругОткрылся предо мною вдруг!Как часто в горестной разлуке,В моей блуждающей судьбе,Москва, я думал о тебе!Москва…как много в этом звукеДля сердца русского слилось!Как много в нем отозвалось!Кому не известны эти хрестоматийные строки из «Евгения Онегина», в которых автор признается в своей – нет, даже не в любви – в своей кровной, неразрывной связи с сердцем России! В этих искренних, задушевных строках Пушкин лаконично выразил все самое заветное, что он хотел сказать о Москве, что он пронес через всю свою жизнь.
Кремль, Малониколаевский дворец. Именно по этому московскому адресу был доставлен из Михайловской ссылки опальный поэт и тотчас же, как был одет с дороги, усталый, небритый, в пыльном костюме, представлен Николаю I, который после продолжительного разговора объявил о снятии с него опалы и дал ему разрешение свободно проживать в столицах и передвигаться по России. Фактическое содержание этого разговора – до сих пор загадка для пушкинистов, но, как полагает большинство из них, следствием стала определенная идеализация личности Николая. В творческом воображении Пушкина (стихотворение «Стансы» – «В надежде славы и добра…») он обрел облик милосердного и просвещенного монарха, способного простить своих «заблудших», «падших» братьев, коими в глазах автора послания «В Сибирь» предстали сосланные участники восстания 14 декабря 1825 года. Именно верой в эту высочайшею милость пронизаны финальные строки этого знаменитого послания:
Оковы тяжкие падут,Темницы рухнут – и свободаВас встретит радостно у входа,И братья меч Вам отдадут.Пушкин прекрасно знал архитектуру Кремля, историю его основных построек. В трагедии «Борис Годунов» мы встречаем упоминание Грановитой палаты (сцена «Царская дума»), Чудова монастыря (сцена «Ночь, келья в Чудовом монастыре»), Патриарших палат (сцена «Палаты патриарха») и др.
С чтением отрывков из «Бориса Годунова» связан и еще один московский адрес Пушкина – Кривоколенный переулок, 4. В этом особняке, построенном в стиле классицизма (ныне – на реставрации), проживал поэт Дмитрий Веневитинов (1805–1827), глава кружка московских «любомудров», стремившихся пробудить в русском обществе интерес к немецкой философии и немецкой романтической литературе. Блестяще образованный, знавший французский, немецкий, английский и итальянский языки, Веневитинов профессионально изучал музыку и живопись. Систематические занятия античной и немецкой философией (Анаксагор, Платон, Шеллинг, Фихте), язык которой он вместе с остальными единомышленниками (В.Ф. Одоевский, И.В. Киреевский, М.П. Погодин, С.П. Шевырев) хотел слить с языком поэзии и на этой основе создать «поэзию мысли», сделало его личность знаменем нового направления в искусстве, которое «любомудры» хотели пропагандировать в созданном ими журнале «Московский вестник». Одно время к этому «философскому» журналу был близок и Пушкин, опубликовавший в нем свои программные стихотворения «Пророк» и «Поэт» («Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон…»). Именно в доме Веневитинова Пушкин читал сцену «Ночь, келья в Чудовом монастыре»:
Еще одно, последнее сказанье —И летопись окончена моя.Исполнен долг, завещанный от БогаМне, грешному. Недаром многих летСвидетелем Господь меня поставилИ книжному искусству вразумил; <…>Да ведают потомки православныхЗемли родной минувшую судьбу,Своих царей великих поминаютЗа их труды, за славу, за добро —А за грехи, за темные деяньяСпасителя смиренно умоляют. <…>Образ Пимена, вызвал у собравшихся впечатление, близкое к духовному потрясению, о чем свидетельствовал в «Дневнике» один из участников этой встречи, историк Михаил Погодин: «Какое действие произвело на всех это чтение, передать невозможно. Кровь приходит в движение при одном воспоминании… Первые явления выслушаны тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались… Кого бросало в жар, кого – в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет… О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, как докончили день. Как улеглись спасть. Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм».
Впрочем, литературный салон Веневитинова – лишь один из многих московских салонов, которые посещал Пушкин в свой новый приезд в Москву. Недалеко от него, на Тверской, 14, в особняке, принадлежащем князю и княгине Белосельским-Белозерским, размещался один из самых респектабельных московских салонов – салон их дочери, Зинаиды Николаевны Волконской (дом сильно перестроен). Она вышла замуж за князя Н.Г. Волконского (брата декабриста), но вскоре разъехалась с ним. Кстати, в Зинаиду Волконскую был глубоко и безнадежно влюблен Дмитрий Веневитинов. Он хранил у себя кольцо, подаренное ему, как гласит легенда, самой Волконской и, предчувствуя свою раннюю смерть (поэт скоропостижно умер, когда ему едва исполнилось двадцать два…) завещал положить в гроб этот волшебный талисман. Друзья свято исполнили волю покойного. Так имя Зинаиды Волконской навсегда нерасторжимыми узами в памяти современников осталось сплетено с судьбой юноши Веневитинова, сообщая рано почившему поэту ореол святости неисполненных обещаний и надежд… Впрочем, для самой Волконской эта смерть вряд ли имела столь важное значение. Обладая разносторонними интересами и способностями (поэтесса, певица, композитор), эта жрица великосветской Москвы блистала на международных конгрессах, решавших судьбы Европы после эпохи наполеоновских войн, пользовалась личным расположением Александра I. Ко времени открытия в своем доме салона, Волконская давно уже стала авторитетной законодательницей общественного мнения, к которому вынуждены были прислушиваться самые заметные фигуры великосветского бомонда. Вот почему открытый ею в 1826 году салон на Тверской сразу же стал центром культурной жизни Москвы. Здесь, как писал Петр Андреевич Вяземский, «соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли. Бывали в нем чтения, концерты…» На одном из них сама хозяйка пропела романс на стихи Пушкина «Погасло дневное светило…», чем живо тронула поэта. Пушкин был желанным гостем салона Волконской, которой он подарил издание 1829 года своей поэмы «Цыганы», с трогательной надписью-посвящением. В этом же салоне он познакомился с польским поэтом Адамом Мицкевичем, а 26 декабря 1826 года присутствовал на прощальном вечере, посвященном отъезду М.Н. Волконской в Сибирь к своему мужу, ссыльному декабристу С.Г. Волконскому. Позже, через А.Г. Муравьеву, тоже отправлявшейся в «добровольное изгнание» вслед за своим мужем-декабристом Никитой Муравьевым, он передаст свое знаменитое послание «Во глубине сибирских руд…»



